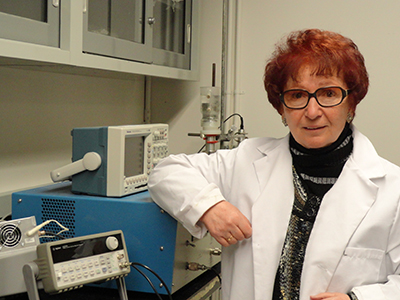Наталья Рапопорт
Это только чума (повесть для кино)
03 июня 2021
Яков Львович Рапопорт в своём кабинете в Институте сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева. Начало 70-х
Повесть для кино
От автора: краткая история повести
8 декабря 1939-го года в 4 часа утра в Ново-Екатерининской больнице, что на углу Страстного бульвара и Петровки, умер человек. И сам человек, и обстоятельства его смерти были настолько необычны, что их расследованием занялась прокуратура. Дело было поручено следователю Шейнину, но следствие было вскоре прекращено, а Шейнин впоследствии арестован, так что обстоятельства болезни и смерти особого пациента вряд ли когда-нибудь прояснятся, хотя это был один из самых драматических моментов в истории советской медицины, да и не только медицины. Ибо человек, скончавшийся 8-го декабря в Ново-Екатерининской больнице, умер от страшной инфекционной болезни — лёгочной чумы, и только высочайший профессионализм и героизм врачей, в особенности доктора Симона Горелика, погибшего в схватке с чумой, и решительные меры принятые НКВД, предотвратили превращение вспышки чумы в эпидемию, а возможно и в пандемию.
В Москву 1939-го года чума приехала с профессором Берлиным, заместителем директора и заведующим лабораторией противочумной вакцины в Саратовском институте «Микроб». Это было лабораторное заражение. Берлин был специалистом высочайшего уровня, и непонятно, как такое могло произойти. Для повести и сценария, которые я сочинила об этих событиях, мне пришлось придумывать свою версию.
Уже больной, но еще не подозревая об этом, Берлин приехал в Москву по вызову на коллегию Наркомздрава. Он остановился в гостинице «Националь», сделал доклад на коллегии Наркомздрава, общался с коллегами, с персоналом гостиницы, с врачами. Так его трагическая судьба оказалась переплетенной с судьбами десятков знакомых и незнакомых ему людей.
Чтобы предотвратить эпидемию, необходимо было выявить и изолировать в карантин всех, кто контактировал с доктором Берлиным в последние сутки его жизни. Чтобы избежать паники в городе и стране, слово «чума» не произносили, и изоляции в карантин, которыми занимался НКВД, были замаскированы под «банальные» аресты, которые в 1939-м году никого не удивляли...
Я узнала эту историю от папы, патологоанатома, свидетеля и активного участника тех зловещих событий. По заданию Наркомздрава папа вскрывал умершего от чумы доктора Горелика: необходимо было срочно подтвердить или опровергнуть страшный диагноз. Диагноз, к сожалению, подтвердился. Папа получил правительственную награду «За выполнение важного правительственного задания».
Рассказ моего отца об этих зловещих событиях я прочитала впервые в папиной «подпольной» рукописи в семидесятые годы и впоследствии опубликовала в моей книге «То ли быль, то ли небыль», в главе «Встреча с императрицей смерти» («Пушкинский фонд» 1998 г.; «Феникс», 2004 г.). Эта история потрясла меня не только фантасмагорическим фактическим материалом, но и исключительной кинематографичностью — возможностью пройтись по Москве 1939-го года на излёте большого террора.
Описанные моим отцом события чумы 1939-го года — документальный стержень представленной ниже повести. На этот стержень нанизана выдуманная мной, но вполне вероятная история. В центре нашего внимания оказываются пять семей, в которых после мнимого ареста одного из членов, так или иначе контактировавшего с заболевшим доктором Берлиным, за восемь дней карантина разыгрываются драматические события, резко меняющие их последующую жизнь: судьбы людей стремительно ломаются после ареста их близких.
Я много лет жила со своими героями, сочиняла им внешность и судьбы. Но когда начались Перестройка и Гласность, я стала думать о сценарии всерьёз. Расспросила дополнительно папу, встретилась с дочерью доктора Берлина Генриэттой Абрамовной, прочитала по её рекомендации книгу А. Шарова о чумологах, побывала в Ново-Екатерининской больнице, где ещё работали люди, помнившие эту историю. На этой основе написала несколько вариантов заявки на сценарий и сам сценарий, у которого было два условных названия: «Это только чума» и «Пустяки, дорогая». Сценарного опыта у меня не было, и вместо сценария получилась повесть. Сегодня, имея за плечами шесть опубликованных книг и публикации в журналах «Юность», «Знамя», «Иностранная литература», «Дружба народов», я понимаю, что повесть была законченным литературным произведением, и её надо было тогда же отдать в печать. Но в те годы у меня гвоздём в мозгу сидел сценарий. Я не хотела доверять моих героев, сотканных в моём воображении из плоти и крови, плоскому бумажному листу: они должны были ходить, говорить, страдать, любить и жить на экране такими, как я их видела. Я поделилась своей проблемой с моим другом Юлием Даниэлем, и по его рекомендации предложила сотрудничество по переделке моей повести в сценарий его приятельнице Людмиле Улицкой, посещавшей сценарный семинар. Это было в 1987 году. Не будучи знакома с нравами литературных джунглей, я допустила серьёзный промах, ничем не застраховав своё авторское право.
Мы с Улицкой начали работать вместе. После своей основной работы я неслась к ней на Аэропортовскую, мы обсуждали сцену за сценой, что-то предлагала я, что-то Улицкая, это был нормальный рабочий контакт. Работать было интересно, и мы довольно быстро двигались вперёд, поскольку большинство сцен было у меня разработано. Так возник эпизодный план из восьмидесяти восьми эпизодов. Мы работали вместе несколько месяцев, идя по эпизодному плану, в чем-то соглашались, против чего-то я протестовала и надеялась согласовать потом, когда закончим основную работу. Мы были близки к финалу, когда меня неожиданно отпустили, впервые в жизни, в научную командировку в Венгрию, и я на два месяца прервала совместную работу. Когда я вернулась, Улицкая сообщила мне, что сценарий закончен и уже у режиссёра. Я поразилась: как так, я же не видела окончательного варианта. Она сказала — это не важно, потому что за время моего отсутствия она внесла в наш общий сценарий много изменений и моего имени нет в авторах. Я недавно проанализировала опубликованный ею сценарий: она дописала девять эпизодов (из восьмидесяти восьми) и внесла несколько несущественных, а иногда и вредящих смыслу изменений.
Это было первое в моей жизни предательство человека, которого я числила в друзьях, и первый в жизни сердечный приступ.
С помощью подруги, знакомой с миром кино, я написала письма Элему Климову, бывшему в те годы Первым секретарём Союза кинематографистов, и режиссёру Андрею Разумовскому, в чьих руках был сценарий. Не помню, от кого я получила сообщение, что работы над сценарием не будет (до недавнего времени я думала, что это была реакция на мои письма, но возможно, сценарий просто не понравился режиссёру). Мне было достаточно того, что сценарий не будет на съёмочной площадке, и я считала инцидент исчерпанным. С Улицкой я прекратила всякие отношения и не здоровалась.
О выходе в свет сценария Улицкой «Чума» мне сообщил по телефону приятель, которому я когда-то рассказывала придуманный мной сюжет. Он сказал удивлённо, что ему кажется, что описанные в сценарии Улицкой события он когда-то слышал от меня. Публикация Людмилой Улицкой в 2020-м году в издательстве Елены Шубиной сценария «Чума, или ООИ в городе» стала для меня полной неожиданностью. К моему глубокому изумлению, Улицкая всё-таки опубликовала этот сценарий, снабдив его неверной датой написания и выдуманной историей создания.
Сегодня я предлагаю вашему вниманию мою повесть «Это только чума», на основе которой был нами совместно написан этот сценарий.
Институт сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, Я.Л.Рапопорт с лаборанткой Ритой, 1978
Это только чума
Саратов. В «чумном» институте
Небольшой провинциальный город спит, утопая в снегу. Из окна проходящего поезда и не разберёшь: привиделся ли, приснился. Лишь в стороне, на отшибе, среди редкого леска небольшое здание утешает глаз чёткими контурами, ярким электрическим светом. Это «чумной институт». Его маленькие обитатели не знают смены дня и ночи. Микроскопические, невидимые глазу, они властно подчинили своему ритму людей в странных одеяниях и защитных масках. Работа здесь не затихает ни днём, ни ночью: учёные напряжённо ищут защиту от страшных инфекционных болезней. Тридцать девятый год вот-вот превратится в сороковой, мир вступил в великую войну, и кто знает, не будет ли в ней применено и бактериологическое оружие…
Резкий междугородний звонок взрывает тишину институтского коридора. Задремавшая над вязаньем вахтёрша тётя Дуся вздрагивает, снимает трубку, слушает и, тяжело вздохнув, ковыляет в дальний конец коридора, к двери с табличкой «лаборатория противочумной вакцины».
Профессор Зархин выходит не сразу. Снять, продезинфицировать противочумной костюм — о, это целый ритуал, который он привычными движениями шамана исполняет несколько раз в день.
— Зархин. Слушаю вас. Да, продвигается успешно, быстрее, чем можно было ожидать. Доклад? Нет, это рано, ещё пару месяцев надо поработать, многое проверить. Как назначен?! Кто назначил, почему не согласовали со мной?! Ах, вот оно что. Что делать, приеду.
Зархин стоит у телефона, устало потирая виски. Лицо его от постоянного ношения маски покрылось серией мелких морщинок и кажется пергаментным, постаревшим, хотя профессору нет и сорока лет.
— Попей чайку, я вскипячу, устал поди, — сочувственно смотрит на него баба Дуся.
— Не могу, баба Дуся, надо спешить, — встряхивается Зархин и направляется обратно в лабораторию.
Не спешите, профессор Зархин! Вам нельзя спешить! Ваша работа сродни работе сапёра: как и ему, вам отпущено ошибиться только один раз…
Зархин уже много лет работает над созданием противочумной вакцины и наконец близок к цели. У него в руках, в небольшой пробирке, поразительный препарат. Много лет назад на Мадагаскаре погибла от чумы маленькая девочка. Культуру микробов, полученную у нее, назвали ее инициалами: ЕВ. Культуру, как полагается, многократно пересевали. И произошло неожиданное: морские свинки, которых заразили бациллами ЕВ, не заболели. Бациллы были живы, но потеряли активность (вирулентность). Однако самое интересное было в другом: морские свинки, зараженные штаммом ЕВ, не только не заболели, но потеряли восприимчивость к обычной вирулентной чуме. Штамм ЕВ стал вакциной.
И тогда группа саратовских ученых решила испытать новую вакцину на себе. Их было трое, руководство и цвет института. Москва долго не разрешала опасный эксперимент, но в конце концов согласие было получено. Три экспериментатора спустились в подвал и изолировали себя от мира. Врач Ягцук ввел им по 250 миллионов бактерий ЕВ. Опыт начался. В институте и в Москве напряженно ждали его результатов. Первый день прошел благополучно. На второй день утром у одного из троих поднялась температура, состояние ухудшалось с каждым часом. Неужели?! Но нет, это оказался спровоцированный вакциной приступ другой болезни, туляремии, которой испытуемый болел. На третий день температура стала падать, а с ней и огромное напряжение, в котором жили все посвященные в этот беспрецедентный эксперимент. Опыт удался! После первых смельчаков вакцину ЕВ ввели себе еще пять, а потом восемь добровольцев. Все прошло без осложнений, и результат эксперимента следовало признать положительным, но оставалось несколько важных вопросов, которые ещё предстояло решить. Возник ли иммунитет? Если да, насколько он силён и длителен. Это ещё предстояло выяснить, и боже мой, как не ко времени был этот внезапный вызов в Москву для доклада на коллегии Наркомздрава.
Вернувшись в лабораторию, Зархин продолжает обследовать заражённых чумой лабораторных животных. Экспериментальная группа, получившая вакцину, жива-здорова, Контроль, как ему и положено, подыхает. Всё как будто в порядке. Откуда же это внутреннее беспокойство, отчётливое ощущение чего-то необычного, неправильного и опасного? Зархин нервно оглядывается. Да нет, всё как обычно. Устал, нервы шалят. Он опять погружается в работу.
Но Зархин не ошибался: необычное было. Он слишком ясно видел подопытных животных. Раздражённый разговором с Москвой, он забыл надеть маску на глаза… Он поймёт это, когда станет раздеваться и увидит маску в тазу с дезинфицирующим раствором. На секунду в глазах его мелькнёт ужас, но он тотчас отгонит от себя эту страшную, чудовищную мысль: нет, нет, это было бы слишком нелепо. И потом, у него же иммунитет! И погрузится в хлопоты — препараты в холодильник, лабораторный журнал в стол под ключ.
Тёмными узкими улочками Зархин возвращался домой. Бумаги, чемодан. Теперь предупредить Анечку — и к поезду. Они с Анечкой и не виделись почти эти последние месяцы из-за его сумасшедшей работы. Из предосторожности, перед тем знаменитым экспериментом, он отправил их с Кнопкой пожить какое-то время в пустовавшей квартире Аниной матери: никто ведь не мог знать, что он потом принесёт с собой домой, даже если выживет.
Кстати, какой сейчас месяц? Декабрь? Скоро Новый Год! У Анечки каникулы! Вдруг она сможет поехать с ним?!
С чемоданом в руке Зархин застыл на минуту перед Анечкиной дверью. Оттуда слышалась тихая музыка, Маленькая ночная серенада. Кнопка спит, Анечка играет. Зархин тихо повернул ключ в замке.
Сидевшая за роялем миловидная женщина чуть за тридцать повернулась было радостно на звук открывшейся двери, но радость быстро сменилось тревогой: что случилось? Ночь, почему чемодан? Вынырнувшее из-за её спины лохматое существо в длинной пижамке бросилось Зархину на шею.
— Вызвали, черти, срочно на коллегию Наркомздрава. С докладом о том эксперименте. Еду прямо сейчас, — объяснил Зархин, щекоча носом Кнопку. — Анечка, у тебя ж каникулы! Договорись с тётей Олей, пусть посидит с Кнопкой три дня. Побудем три дня вместе, поживём как люди! Мне заказан номер в гостинице «Националь». Я еду как важная птица. Тебе ж не каждый же день выпадает такая козырная карта — пожить с важной птицей в гостинице «Националь»!
— Да я б поехала с тобой, даже если бы ты был простым воробьём и тебе заказали номер в гостинице «Зоопарка»! Ночь сейчас, какая тётя Оля! Я с ней завтра с утра поговорю. Господи, не верю, неужели, удастся!
Зархин достаёт бумажник, протягивает деньги:
— Возьми на дорогу.
Анечка смеётся:
— Оставь себе на дорогу! Меня мои вундеркинды кормят не хуже, чем тебя твои блохи!
…В купе Зархин счастливо улыбается, глядя в окно невидящими глазами. Его познабливает, он завернулся в казённое одеяло, но какие это всё пустяки: они с Анечкой проведут три дня вместе в Москве, и к чёрту идиотские отчёты! Впрочем, кое-что надо обдумать. И Зархин достаёт бумаги.
Купе между тем живёт обычной дорожной жизнью. Простоватый малый возбуждённо хвастается красивой цветущей особе: он едет в Академию наук, его пригласил сам академик Лысенко! Да-да, сам академик Лысенко! В глухой провинции, где он живёт, над его идеями смеются — то ли совсем отсталые, то ли враги, а вот академик заинтересовался. Особа меж тем готовит бутерброды с домашним салом, поглядывая вверх на крепко сбитого мужчину, который всё косит глазом с верхней полки в глубокое декольте её халатика…
Поезд мчит к столице. А в ничего не подозревающем, скованном морозом, мирно спящем городе наступает обычное буднее утро.
…От вокзала до гостиницы «Националь» Зархин взял такси: мороз, волнение и дорога утомили его. Он ехал пустынными, еще не ожившими улицами. За узорными окнами угадывалась утренняя суета. Плакал грудной ребёнок, не хотел просыпаться для суровой ясельной жизни. Молодая женщина ловкими привычными движениями раскручивала перед зеркалом сделанные из газеты папильотки. В коммунальных квартирах назревали обычные утренние скандалы в очередях в уборную. Город встречал новый день.
В Москве
Васильевы
Васильев проснулся в кромешной мгле. Никогда не подводившие его внутренние часы отбили: рано, спи ещё. Но Васильев знал, что больше не уснёт. Он приподнялся на локте и прислушался к тишине за перегородкой. Дочь Васильевых, восемнадцатилетняя Алёнка, три месяца назад неожиданно вышла замуж. Она ввела своего Серёжку в дом решительно и победоносно. Ввела в дом… Не в дом, а в шестнадцатиметровую комнату, где они и втроём-то едва умещались. Мастерице Елене удавалось сохранять уют сшитыми из разноцветных лоскутков весёлыми занавесками, её собственными чудесными акварелями на стенах. И сейчас молодая чета спала за ширмой, которую Елена расписала довольно смелыми, хотя с виду вполне пасторальными сценами: дескать, мы знаем, зачем люди женятся… Но всё это, конечно, было не дело; надо было срочно найти детям отдельное жильё.
Серёжка нравился Васильевым. Он как-то мгновенно растворился в атмосфере семьи, с полуслова подхватил их непринуждённую, ироничную манеру общаться друг с другом. Он не демонстрировал ни малейшего показного пиетета перед «стариками», вёл себя с достоинством, но без хамства — знал меру.
Способный малый, мог бы быть прекрасным врачом-клиницистом, но рвётся в науку, — думал Васильев. — Сейчас все они рвутся в науку, а людей кто будет лечить?
— Те, кто больше ни на что не способен, — смеётся Серёжка (и как бы это не стало правдой). — Вам же вон на соседнем доме великий русский учёный Дэ. И. Менделеев из камня выложил: «Зная, как привольно, свободно и радостно живётся в научной области, невольно желаешь, чтобы в неё вошли многие». Он желает, а вы нет? Сами-то, небось, свободно и радостно устроились одним из ведущих микробиологов страны! Кому ни скажешь: женился на Алёне Васильевой, все — ну да?! На дочке самого Васильева?! Счастливчик!
Так тонко льстит хитрый Серёжка.
Елена говорит, что её в Серёже что-то тревожит, но объяснить это не может ни ему, ни даже самой себе.
А комнату-то искать надо, хотя без детей, наверно, станет очень скучно…
Елена зашевелилась рядом, и Васильев с нежностью посмотрел на спящую жену: лицо её в темноте казалось совсем молодым и очень красивым; впрочем, ей и дневной свет был не опасен, она была прелестна в свои сорок ничуть не меньше, чем в двадцать — редкостное сочетание женской красоты с идеальным характером, наверняка единственное на планете. И досталось оно ему, Васильеву. Значит, заслужил. Минувшие двадцать лет поубавили остроты, но принесли взамен чудесную гармонию отношений. Елена открыла глаза, и в них мгновенно мелькнул ужас:
— Проспали???
— Тссс, нет, нет, лежи тихо, рано ещё, — успокоил муж.
— Господи, я так с ума сойду, каждую ночь снится, что будильник сломался и мы проспали! И из-за такого глупого пустяка — в тюрьму!
По Союзу ходили слухи об Указе о наказаниях за опоздания, с градациями: десять минут; пятнадцать минут; двадцать минут; за опоздание больше чем на двадцать минут грозил тюремный срок. Никто не знал, принят ли уже такой указ, и бедная Елена жила в вечном страхе, что в конце концов проспит и опоздает в своё издательство, и тогда — поминай как звали…
Васильев успокаивал её, как мог: со своими внутренними часами он никогда не просыпал заказанного с вечера времени:
— Спокойно, Леночка, двадцать лет назад ты завела себе будильник надёжнее швейцарского, фирма гарантирует ещё лет тридцать бесперебойной службы, — и Васильев потянулся к жене.
— Ты с ума сошёл, Женька, дети услышат!
— Ну да, услышат они — их сейчас пушками не разбудишь!
Он ошибался. За перегородкой не спали.
— Тише ты, Серёжка, по-моему, родители шевелятся, — замерла Алёна.
— Да спят они, спят, что им ещё делать, — с самоуверенной улыбкой успокоил молодой муж…
Завтракали все вместе, за небольшим круглым столом у окна.
— Я сегодня уезжаю, мать не обижать, проследите, чтобы была сыта, одета, обута и не загуляла в разлуке, — объявил Васильев.
— Куда это ты? — удивилась Алёна.
— В Ленинград.
— Надолго?
— Да. На весь завтрашний день.
— Ну, вы и хватили, Евгений Александрович! — запротестовал Серёжка. — Значит, проследить, чтобы была сыта, одета, обута и не загуляла в разлуке. И на всё это — одни сутки. А у самого-то, между прочим, ушла на это целая жизнь.
— За что я тебя люблю, Серёжка, так это за отъявленное нахальство! Где ты, Алёна, нашла такого отпетого? — поинтересовался Васильев.
— Ты, папа, отпетых не видел. Серёжка — ангел, — объявила Алёна. — Ты должен мне быть вечно за него благодарен. Могла привести пьяницу, картёжника и вора — он бы нас всех бил, разворовал и пропил всё наше богатство. — Алёна широким жестом обвела бывшую шестнадцатиметровую комнату, от которой сейчас осталось едва две трети.
— Жень, вернись сегодня пораньше, тебе собраться надо — хоть и на один день, так ведь в Ленинград! Там живут интеллигентные люди, Эрмитаж и Русский музей, если кто не в курсе. И вообще оппонент на докторской должен быть похож на человека. Я тебя вечером подстригу.
— Нет, Леночка, пораньше сегодня не смогу. В три коллегия Наркомздрава. Зархин приехал из Саратовского «чумного» — помнишь, в газетах недавно писали. Он и ещё двое ввели себе ослабленную бактерию чумы, чтобы проверить её безопасность и активность как вакцины. Зархин будет сегодня на коллегии докладывать об этом эксперименте. Если б не Ленинград, я зазвал бы его на вечер к нам домой. Мы с ним часто видимся на конференциях — очень славный малый, живой и весёлый, хоть и ходит всю жизнь по минному полю.
Лицо Васильева вдруг озарилось неожиданной мыслью:
— Лен! А может, поедешь со мной в Питер? Там меня и подстрижёшь. Возьми отгул! Дадим ребятам две счастливых медовых ночи. Погуляешь по городу, пока я заседаю, вечером в театр сходим, потом на поезд. А?
— Женька, твоими бы устами… Не могу! В издательстве аврал! Хорошо, что на ночь домой отпускают. А идея твоя хороша — поеду-ка я навещу тётю Женю, переночую у неё пару ночей, и старушка будет счастлива, и волки сыты.
— Дети, — объявил Васильев торжественным голосом, — у нас с матерью для вас внеочередной свадебный подарок: мама проводит меня в Ленинград и поедет навестить тётю Женю; следующий раз увидите нас только послезавтра утром. Не горюйте! Время пролетит быстро, горечь разлуки скрасится скорым свиданием!
— Ну что вы, Евгений Александрович! — протестует Серёжка, тщетно пытаясь скрыть неожиданную радость, — вы нам совсем не мешаете!
Журкины
Леонид Петрович и Нина Константиновна Журкины завтракают за покрытым клеёнкой квадратным столом в строго обставленной комнате. В книжных шкафах медицинская литература чередуется с политической: Маркс, Ленин, Плеханов. Нина Константиновна, дочь старого большевика, прошедшего царские тюрьмы, каторги и ссылки до сих пор живёт идеалами своего отца, умершего внезапно в середине двадцатых годов. Нина Константиновна фанатично верит печатному слову. Муж давно с этим смирился и относится к причудам супруги с грустной и терпеливой иронией.
За завтраком супруги просматривают утренние газеты, обмениваются замечаниями.
— Какая страшная война, — говорит Журкина. — Финляндия, её и на карте-то не видно, а напала, и солдаты наши гибнут. А главные наши военачальники оказались предателями, кто бы вообще мог такое представить! Хотели свергнуть советскую власть, за которую сами же боролись вместе с моим отцом. И его друзья, люди, которых я знала с детства, такие же, как он, революционеры, тоже оказались предателями и перерожденцами. Иногда я думаю, какое счастье, что отец этого не увидел. Он бы не пережил такого несчастья.
— Да, я тоже часто думаю, что Константин Ильич вовремя умер, — соглашается её муж, но похоже, что он имеет в виду что-то совсем другое.
— Верить теперь никому нельзя, никому, даже врачам! Страшно ходить в поликлинику, не знаешь, у кого лечиться.
— Это почему? — удивляется Журкин.
— Ты что, забыл? Знаменитый врач, Плетнёв!
— Что Плетнёв, Нина?
— Плетнёв, профессор Плетнёв! Набросился на пациентку, искусал ей грудь!
— Господи! Зачем?
— В газетах было написано — в припадке страсти!
— Что ты такое говоришь, Нина, какой страсти??? Ему же около семидесяти лет! Но если правда — можно только позавидовать!
— Что значит «если правда»? Это же в газетах было! Ты же не ставишь под сомнение то, что пишут центральные газеты? — Нина Константиновна смотрит на мужа напряжённо и испуганно.
— Господь с тобой, конечно, нет, — в голосе Леонида Петровича звучит ирония, но Нина Константиновна ее не замечает и продолжает с искренним ужасом:
— Такой необузданный человек лечил Горького, Менжинского! Да не лечил! Пытался их убить!
— Погоди-ка, погоди! Плетнёв… Из Кремлёвки… Кажется, он один из тех, кто отказался в тридцать втором году подписать протокол о том, что Аллилуева умерла от аппендицита, как того требовал Сталин. На самом-то деле она умерла от пулевой раны в виске. Три кремлёвских врача отказались тогда подписать версию аппендицита, и Плетнёв один из них. В результате пришлось выпустить коммюнике о её самоубийстве. Вот оно, значит, как… Теперь он искусал пациентке грудь… Долго же хозяин ждал...
— Что ты имеешь в виду? — Нина Константиновна испуганно смотрит на мужа, но он не отвечает.
Оба в молчании допивают кофе. Нина Константиновна опять погружается в газету. Леонид Петрович собирается уходить.
— Ты когда вернёшься?
— Не знаю. Сегодня в три коллегия. Потом, возможно, приём. Наверное, задержусь.
Гольдины
В семье профессора Гольдина неспешно течёт обычное рабочее утро.
Просторная, ярко освещенная комната поражает старомодным уютом, хотя и совмещает гостиную, спальню и рабочий кабинет обитателей; огромный старинный буфет соперничает со старинным книжным шкафом; раскладной диван угадывается за изящной ширмой; арочный проем с красивым занавесом ведёт в крохотную соседнюю комнату. Явным диссонансом ко всем этим осколкам мелкобуржуазного декадентства бесцеремонно режет глаз длинный письменный стол под окном, условно поделённый пополам небольшим микроскопом и заваленный бумагами по обе стороны от микроскопа.
За овальным обеденным столом в центре завтракает семья: профессор — патологоанатом Гольдин, его жена — профессор-физиолог и старшая дочь — студентка медицинского института, первокурсница. Рыжий двухлетний бесёнок спит в закутке за занавеской. Старинные часы на стене показывают четверть девятого. Пожилая домработница с морщинистым лицом появляется и исчезает, принося то омлет с ветчиной, то кофе в кофейнике. На столе — накрахмаленная белая скатерть, салфетки в кольцах из слоновой кости у каждого прибора, в маленьком молочнике — сливки. Добротный профессорский быт, чудом сохранившийся в коммунальной квартире.
Разговор за завтраком вертится вокруг профессиональных вопросов.
— Сейчас врачам легко, — говорит Ляля, — на всё есть схема, поставь диагноз и дуй по схеме — так все и делают. Не то что земские врачи, которым приходилось чёрт знает сколько знать и думать. Теперь каждый знает свой орган: уролог, к примеру, видит в пациенте мочевой пузырь на ножках, гинеколог — …
— Ладно, ладно, я знаю, что видит гинеколог, — быстро прерывает дочь Гольдин. — А мыслить схемами — чревато. Есть знаешь, такая история. Известный австрийский врач приговорил своего пациента: жить, говорит, вам осталось полгода, ну, может, месяцев семь, так что завершайте свои земные дела. Там у них не принято ничего скрывать. А года через три врач встречает этого пациента на улице, живёхонького. Как, говорит, вы живы? — Жив. — Как же это? — А вот так. После нашей с вами последней встречи терять мне было нечего, и я обратился к вашему коллеге Пупкину. — И что он вам порекомендовал? — То-то и то-то. — Так вас неправильно лечили!!!
— Вот что значит, Лялька, мыслить схемами.
— Па, — докладывает Ляля с набитым ртом, — вчера Стручок на анатомии показывал, как вскрывать, потом спрашивает Сережку: «Ваше мнение? Причина смерти?». — А Серёжка в ответ: «Больной умер в результате вскрытия!» Стручок чуть не лопнул от злости, хотел Серёжку прогнать, но потом сделал вид, что и у него тоже есть чувство юмора.
— Да… Диагноз, Лялька, — острая вещь. Точный диагноз… Знаешь, мы с мамой на прошлой квартире жили с некими Фейгиными. Ты их не помнишь. У них до революции был большой книжный магазин в центре Москвы. Потом его, конечно, отобрали, и дом отобрали, и вообще всё отобрали. И они оказались в одной коммунальной квартире с нами. А до революции были очень богатые люди. Так вот, как многие скучающие дамы, мадам Фейгина до революции страдала неврозами. Модно было. А лечились все эти скучающие дамы в модной нервной клинике профессора Минора — очень знаменитый был тогда невропатолог. И вот однажды Минор говорит Фейгиной: «Поезжайте, сударыня, на воды, в Баден-Баден. У меня там коллега, замечательный доктор Оппенгейм. Я даю вам рекомендательное письмо к нему и историю вашей болезни в запечатанном конверте». А тут четырнадцатый год, потом семнадцатый, и вот уже мадам Фейгина на водах в нашей коммунальной ванной. По утрам очереди, склока, нервотрёпка, а она — вот ведь парадокс — после революции совершенно забыла о своих неврозах. Революция её вылечила. Потом мы разъехались. А году в двадцать девятом иду я по Тверской, а по другой стороне улицы, мне навстречу — Фейгин. Увидел меня, бросился через улицу, кричит: «Все вы, врачи, жулики и негодяи! У меня есть такой документ! Такой документ! Я завтра отнесу его в газету «Известия»! Оказалось, что, перебирая свой архив, Фейгин наткнулся на запечатанный конверт, что Минор когда-то вручил его супруге, и решил посмотреть, чем она страдала до революции и от какой болезни её вылечили большевики. Вскрыл конверт. А там записка: «Дорогой Оппенгейм! Посылаю к тебе свою пациентку Фейгину. У них большой книжный магазин в центре Москвы». Я говорю: «Не понимаю, Фейгин, чем вы так возмущены? Это, может быть, самый точный диагноз, с каким мне приходилось сталкиваться в моей медицинской практике! И уж во всяком случае не советую вам обращаться в газету «Известия» и лишний раз напоминать, что у вас был большой книжный магазин в центре Москвы!» Так что видишь, бывают диагнозы похитрее рака и пневмонии.
Меж тем Ляля кидает в портфель книги, толстые тетради, подкрашивает губы и собирается бежать. Уже перед самым уходом рассказывает скороговоркой:
— А вчера Серёжка анекдот рассказал. Велел никому не пересказывать, но вам можно. На юбилее Максима Горького один человек (смотрит на дверь, что-то быстро шепчет отцу на ухо и продолжает) сказал такую речь: «Максим Горький — замечательный пролетарский писатель, и наш народ оказывает ему заслуженные почести. Его именем названа центральная улица в столице, его именем назван город на Волге, его именем даже назван самолёт. Какую еще почесть можно оказать человеку? Ну, в древности именами великих людей называли целые эпохи. Так давайте назовём нашу эпоху «максимально горькой» эпохой!».
— Лялька, ты с ума сошла! — ахает мама. — Не смей этого никому повторять! И Серёжке своему скажи — пусть лучше острит на анатомические темы!
— Это какой же Серёжка? — подмигивает жене Гольдин. — Невысокого росточка, полноватый такой, с залысинами?
— Па, ты что?! — задохнулась Ляля. — Серёжка, самый красивый в нашем потоке, высокий, волейболист, за институт играет. Сам ты маленький, толстый и лысый!
Ляля целует отца и исчезает. Старшие Гольдины тоже начинают собираться.
— Ты когда домой?
— Не знаю. Сегодня коллегия Наркомздрава, меня приглашали. Зархин приехал, с докладом о противочумной вакцине. Но у меня два вскрытия, и на коллегию, боюсь, не успею. Тогда вернусь, как обычно. Гольдин подает жене шубу, и они уходят.
Коганы
В просторной комнате доктора Александра Когана и его жены Татьяны медицинские книги и журналы на разных языках соседствуют с безделушками и фарфором явно заграничного происхождения. До революции Александр Коган учился в Сорбонне и Женевском университете, успел поработать в Швейцарии, но в начале двадцатых годов, соблазнённый московским коллегой, приехал на работу в Москву. Когда он осознал свою ошибку, было поздно. Теперь он с женой, медсестрой из той же Ново-Екатерининской больницы, живёт в большой коммунальной квартире, гул которой не в состоянии заглушить никакая дубовая дверь. Живут Коганы трудно, особенно после того, как два года назад арестовали его брата, и родилась маленькая Наташка.
Сегодня в семье Александра Когана мирно начавшееся утро обернулось болезненной ссорой. Татьяна поднимала Наташку, Наташка капризничала, не хотела просыпаться в такую тьму, в такую рань, в такой лютый мороз, но миндальничать было некогда, и Татьяна безжалостно втискивала орущего ребёнка в кофты, рейтузы, конверт, в то время как Александр безучастно сидел у края стола, сдвинув в сторону тарелки, и что-то сосредоточенно писал.
— Брось, наконец, эти глупости, — в конце концов не выдержала Татьяна. — Мама говорит, ты нас всех погубишь этими письмами! Ну что ты всё пишешь — ошибка, ошибка! Тебя самого посадят за такие письма, и нас вместе с тобой! Оставишь ребёнка сиротой!
— Татьяна, ради бога, я хочу отправить письмо прямо сейчас, я же сегодня дежурю и вечером не смогу. Завтра поговорим, — Александр продолжал писать.
— Саша, пойми, писать бесполезно и опасно, о нас не думаешь — подумай о ребёнке! У тебя в голове один только твой брат и медицинские книги!
Александр Коган был врач от Бога. Его знали в Москве, к нему часто обращались родственники всякой мелкой номенклатуры, не приписанной к Кремлёвке. Возможно, поэтому его не тронули в тридцать седьмом — кто ещё мог бы их лечить на таком уровне?! Его не тронули, но посадили его брата, получившего десять лет без права переписки.
Коган был уверен, что брат пострадал из-за него, и писал бесконечные письма о том, что брат невиновен, во все возможные и невозможные инстанции — в Верховный суд, Генеральному прокурору. А тем временем кости его расстрелянного брата уже два года как дотлевали в какой-то общей могиле.
Сегодня, уходя на суточное дежурство, Коган спешил отправить самое последнее, самое главное письмо — товарищу Сталину. Семейный скандал выбил его из колеи. Он быстро собрал бумаги, схватил пальто, шапку, буркнул «увидимся» и выскочил за дверь.
Петров
Полковник медицинской службы Петров, измученный человек с тревожным взглядом воспалённых бессонницей глаз, завтракает один в большой, хорошо обставленной комнате, с хрусталём и коврами. Видно, что здесь ещё совсем недавно жила женщина. Сейчас она ему позвонит, как звонит каждое утро после отъезда в Рязань, куда уехала якобы помочь старшей дочери, осчастливившей их с Петровым первым внуком. Пацану почти год, а он и не видел его ни разу. С тех пор, как расстреляли Тухачевского, с которым полковник близко дружил, он ночью не смыкает глаз. До пяти утра он стоит у окна, напряженно глядя в заоконную тьму в ожидании визита ночных гостей. Собранный женой на этот случай чемодан ждёт гостей у двери прихожей. Это стало навязчивой идеей. Беспомощные попытки жены его успокоить «Ты ни в чём не виноват. Тебе ничего не грозит. Всех, кого хотели, уже давно взяли» — просто смешны. Никакие успокоительные и снотворные ему не помогают. Но в пять утра полковник вдруг успокаивается сам, без всяких лекарств и трав, и верит, что ему подарен ещё один день. В семь тридцать звонит будильник и вслед за ним раздаётся контрольный звонок жены, ожидаемый, как контрольный выстрел. Жена расспрашивает его о всяких бытовых пустяках, но он-то понимает: проверяет, на месте ли он после прошедшей ночи. Конечно она, как и он, ожидает неизбежного. Петров понимает, что ей необходимо было от него отдохнуть. Увидятся ли они ещё когда-нибудь в этой жизни?
Контрольный звонок.
— Доброе утро, дорогой. Как ты? Вера сказала, что ты сегодня обедаешь у неё, она тебя ждёт.
— Нет, не сегодня — завтра. Сегодня у меня коллегия. Мой старый приятель Зархин из Саратовского «чумного» института приехал с докладом. Потом, возможно, будет приём.
Бурханова
У популярной узбекской певицы Бахор Бурхановой закончились гастроли в Большом театре. Впереди долгожданный свободный день, с ГУМом, ЦУМом, новыми туалетами и рестораном «Ташкент». Бурханова спустилась в вестибюль заказать такси и выпить чашку горячего чая в гостиничном буфете. День обещал быть солнечным, но очень морозным. Она была счастлива, что уезжает: морозы её измучили. Вот и новый посетитель, с чемоданчиком и портфелем, подошел к стойке администратора, зябко поеживаясь — видно было, что совсем закоченел.
— От вас холодом несёт! — пожаловалась Бурханова.
— Да, мороз несусветный! Полюс! Два шага от такси, а уже ни рук, ни ног не чувствую, — пожаловался приезжий, делая шаг назад. — А я вас узнал! Только что видел ваш портрет на афише! Пойду завтра на ваш спектакль.
— Гастроли закончились, я вечером уезжаю домой
— Как жаль! Завтра приедет моя жена, пианистка. Она была бы счастлива с вами познакомиться!
— У вас бронь? — вмешалась администраторша.
— Да, моя фамилия Зархин. Бронь от коллегии Наркомздрава
— Да-да, конечно. Заполните анкету. Ваш номер тридцать шестой.
— О, мы соседи, — сказала Бурханова. — Я в тридцать пятом.
Руки не слушались закоченевшего Зархина.
— Давайте я вам помогу, — предложила Бурханова и под диктовку Зархина заполнила его бумаги. — Может, выпьем вместе чашку чая? Вам не мешает согреться.
— Почту за честь, — обрадовался Зархин.
— Ваше такси будет через двадцать минут, — сообщила Бурхановой администраторша.
— Чудесно. Как раз успеем!
И Зархин с Бурхановой прошли в гостиничный буфет.
Коссель
… Седая старушка с измождённым лицом, на котором только и осталось, что огромные, тёмные, трагические глаза, неподвижно сидит перед портретом смеющегося молодого человека в лётной фуражке. Это Дима Коссель — доктор-нейрохирург по образованию, романтик и авантюрист по натуре — её единственный сын, её постоянная радость и тревога, ласковый, заботливый, весёлый флибустьер… Он летал за полярный круг на поиски пропавшей экспедиции Леваневского, и его самолёт разбился при посадке над Архангельском. Старушка не верит ни газетам, ни радио, ни близким; она-то знает: Дима жив! Самолёт разбился, а его выбросило на льды, и он ползёт сейчас к людям где-то в Арктике, а может быть даже — такое чудо — он ничего себе не повредил и не ползёт, а идёт себе на юг и скоро встретит какую-нибудь чукотскую юрту, и чукчи накормят его строганиной, и он прилетит в Москву. Нет, лучше приедет поездом — хватит, налетался! Конечно, он едет сейчас поездом, он может появиться в любой момент, и она его ждёт, не гасит ночью свет в комнате: пусть увидит освещённое окно, пусть знает — она не спит, он её не разбудит, не обеспокоит. Он ведь такой — может ходить по улицам до утра, лишь бы её не потревожить, сколько раз в юности так бывало…
Старик Коссель собирает на столе небольшой завтрак: заставить жену хоть немного поесть — нелёгкая задача. Он пускает в ход и уговоры, и мольбы, и шантаж: он тоже не будет ничего есть и умрёт от голода — мужчина умирают от голода быстрее женщин — умрёт от голода у неё на руках… Всего только чашечка чая и вот этот кусочек хлеба — я умоляю тебя, Асенька! Я ведь должен что-то поесть перед вызовами, я уже не летаю, как орёл, я ползаю по этажам, как черепаха с медицинским образованием и одышкой. Спасибо, Асенька, вот теперь я тоже позавтракаю — и на вызовы. Будь умницей, я скоро вернусь.
Коссель немного лукавит: он работает сегодня во вторую смену. Сейчас он выйдет из дому и будет бродить по улицам, пока не закоченеет. А когда вернётся, она встретит его ясными, полными жадной надежды глазами: нет ли новостей от Димы?
Крутоголовых
Чиновник Наркомздрава Пётр Федосеевич Крутоголовых — седеющий холёный человек с полными плотоядными губами, с глазами, будто проспринцованными подсолнечным маслом, завтракает один, почитывая «Декамерон». Завтрак поистине ресторанный — с икрой, балычком, салатами — Пётр Федосеевич любит хорошую еду и комфорт. Он может всё это себе позволить: его служба в отделе по распределению молодых специалистов обеспечивает ему широкий круг знакомств среди самых разнообразных слоёв населения, часто далеко не последних…
Жена его ушла, не выдержав сплетен, что Крутоголовых «злоупотребляет служебным положением» с молоденькими врачихами, которым не хочется ехать на работу в какую-нибудь забытую богом тьмутаракань. А кто бы, скажите, на месте Петра Федосеевича отказался от того, что само плыло в руки? Он никого не понуждал, брал только то, что ему предлагали. И никогда никого не обманул. Пётр Федосеевич вздохнул и тщательно завернул остатки еды: сегодня он вернётся домой поздно, ужинать придётся этими остатками. В три — коллегия Наркомздрава, ему надо там быть, хоть он и не понимает ни черта в этих вопросах, но он — член коллегии…
На коллегии Наркомздрава
…Доклад Зархина на коллегии Наркомздрава вызвал колоссальный интерес. В президиуме сидел сам нарком, рядом с ним — Васильев, в первом ряду, из наших знакомых — Журкин и полковник Петров. От аудитории не могло укрыться, что с докладчиком что-то неладно. Голос его постепенно садился, его заметно трясло. Васильев выскочил из зала и примчался откуда-то со стаканом горячего чая. Это на какое-то время помогло. В начавшихся прениях нарком отметил огромное значение работы Зархина, отвечавшей самым высоким мировым стандартам. Высокие стандарты отличали работу от докладчика, который к этому моменту не отвечал уже никаким стандартам: он весь горел, его била крупная дрожь… Коллеги, подходившие поздравить его с успехом, пугались его вида. Нарком вызвал машину, и Васильев с Петровым отвезли полуживого Зархина в гостиницу. «Похоже, у меня пневмония, — прохрипел Зархин, — грудь заложило, спина болит и всё тело ломит. Знобит и сил нет никаких. Наверное, простудился в поезде».
В гостинице «Националь»
В вестибюле гостиницы «Националь» Бурханова с огромным чемоданом и молодым человеком театральной наружности, откомандированным проводить её на вокзал, направляются к выходу из отеля. Навстречу им в гостиницу входит странная процессия: двое мужчин ведут под руки, а вернее тащат на себе третьего, в котором Бурханова узнаёт своего бывшего соседа по этажу. Нет сомнения, что это тот самый, кому она утром помогала заполнить бумаги и с кем пила чай — но как страшно изменился он за прошедший день! Если бы она не познакомилась с ним утром, она бы подумала, что он мертвецки пьян. Бурханова сделала движение ему навстречу, чтобы попрощаться, но было очевидно, что он ничего и никого не видит. Она проводила его грустным и встревоженным взглядом и в который раз подумала — какое счастье, что она отсюда уезжает.
Гостиница «Националь» — участок доктора Косселя. Болезнь постояльцев — не редкость, и старого доктора с потёртым саквояжем здесь знают. Администратор указывает ему дорогу к номеру Зархина. Доктор застаёт пациента в очень тяжёлом состоянии, в бреду. Он выслушивает его через маленькую деревянную трубочку.
— Плохо, очень плохо, — говорит Коссель Васильеву и Петрову. — У вашего больного крупозная пневмония. Надо срочно госпитализировать. Я вызову перевозку.
Прибывшие санитары уносят Зархина на носилках.
Васильев несётся домой на такси: время поджимает, он, того и гляди, опоздает к Ленинградскому поезду.
Коссель идёт домой пешком. Он спешит, ему нужно покормить и уложить беспомощную Асю. У него свои заботы, тревога и горе, и он забывает о незадачливом пациенте.
Тем временем Зархина привозят в Ново-Екатерининскую больницу, что на углу Страстного бульвара и Петровских ворот, в двух шагах от гостиницы «Националь».
В Ново-Екатерининской больнице
Татьяна с близкой подругой, тоже медсестрой, курят в коридоре у входной двери.
— Ты почему сегодня опять дежуришь? — удивляется подруга. Ты же вчера дежурила.
— Я с Ковалёвой поменялась. Мы с Сашкой сегодня утром поссорились. Он с утра до ночи пишет свои дурацкие письма, ты знаешь, про брата. Он всех нас погубит. Ну я и взорвалась. А перед уходом забежала к нему в отделение — вижу, он сам не свой. Мне его вдруг так жалко стало. Ему же ночь дежурить. Я и поменялась с Ковалёвой. Если дежурство тихое, мы с ним ночью поговорим. У нас ночью на дежурстве лучше получается.
В окно коридора видно, как из подъехавшей перевозки выносят на носилках пациента.
— Похоже, Сашке скучать не придётся. Попробую достучаться до него под утро. Под утро меньше везут, — говорит Татьяна, затаптывает окурок и поднимается в своё отделение.
В приёмном покое Ново-Екатерининской больницы дежурит доктор Коган. В отделении он сейчас один: дежурящая с ним в паре медсестра, как всегда, курит и треплется на лестнице, хотя привезли очень тяжёлого больного. Коган осматривает и выслушивает пациента, которого душит страшный кашель с кровавой мокротой. Что-то не похоже на банальную пневмонию. Сквозь бессвязный бред больного иногда прорывается отчётливое слово «маска», и у Когана возникает страшное подозрение. Он быстро просматривает документы пациента и находит подтверждение своей чудовищной догадке в информации о его месте работы: Саратовский институт «Микроб» — «чумной институт». Об осуществлённом там недавно опасном эксперименте Коган читал в газете, и фамилия Зархин всплывает в памяти. У доктора больше нет сомнений, что у больного не крупозная пневмония, с которой его сюда направили, а куда более зловещее заболевание — лёгочная чума. Доктор Коган покрывается холодным потом: не только пациент, но и он сам уже приговорён. Лёгочная чума в такой стадии стопроцентно заразна, и нет средств предотвратить заражение, и нет спасения. Необходимо собраться с мыслями и сделать необходимые распоряжения. Первым делом, запереть двери приёмного покоя. Медсестра ещё, слава богу, на перекуре, он с пациентом наедине. Медсестра слышит, как защёлкнулись изнутри двери приёмного покоя. Она стучит в дверь, но доктор не открывает. Она недоумённо пожимает плечами и достаёт новую папиросу. Коган между тем звонит домой Главврачу больницы и будит его своим невероятным сообщением: в больницу по Скорой доставили больного с лёгочной чумой. Необходимо срочно организовать карантинные мероприятия. Нет, я не брежу. Лёгочная чума. Больной — сотрудник Саратовского «чумного института». Видимо, лабораторное заражение. Главврач долго не может вникнуть и поверить услышанному: и правда, можно ли представить, что в центре Москвы в середине двадцатого века — чума. «Николай Ильич, необходимо срочно позвонить на Центральную, чтобы больше не везли сюда по Скорой, и запретить выход и выезд из больницы кому бы то ни было. Надо также перекрыть связь между этажами». — «Александр Маркович, вы уверены?» — «Уверен. Пациент из Саратовского чумного. Классическая картина лёгочной чумы, и бактериологический тест, безусловно, подтвердит. Противочумной костюм и маска? Поздно, Николай Ильич. Я безусловно инфицирован. Да, я единственный, кто контактировал с больным. Я остаюсь здесь с ним до конца. Двери приёмного покоя я запер. Пока смогу, буду подходить к телефону. Прощайте, Николай Ильич». С невероятным мужеством и самообладанием Коган даёт по телефону подробные инструкции персоналу о том, как обезопасить вход в палату после их с Зархиным смерти.
Закончив экстренные звонки, Коган возвращается к пациенту, состояние которого ухудшается буквально с каждой минутой. Коган делает всё, что в его силах, чтобы облегчить страдания Зархина. В перерывах между инъекциями Зархину он пишет письма — Татьяне, родным, и своё последнее, главное письмо о брате. Сам он вскоре умрёт в полном одиночестве.
Весть о том, что в больнице чума, с быстротой взрывной волны облетела медицинский персонал. Татьяна узнала об этом от постоянно пьяной санитарки.
— Танька! Это правда, что твой заперся в чумным и никого не впускает?
— С каким чумным?
— Ты что, с луны свалилась? В больницу чумного привезли. Доходит. Твой его принимал, теперь, говорят, заперся с ним, велел больницу закрыть. Говорят, твой тоже помрёт.
Татьяна опрометью бросилась к приёмному покою. Дверь действительно оказалась закрытой. Сквозь окно коридора было видно, как больницу окружают солдаты.
— Саша! Открой, Саша! Открой, это я!
— Танечка! Назад! Не подходи сюда, ради бога! Ничего не трогай! Уходи сейчас же! — Саша закричал таким страшным голосом через запертую дверь, что Татьяна отпрянула.
— Танечка, ты почему здесь? Ты же сегодня не дежуришь!
— Я с Ковалёвой поменялась, хотела остаться дежурить с тобой. Саша, открой, я хочу быть с тобой, мне страшно!
— А Наташка где?
— Я её к маме отвезла.
— Танечка, что ты наделала! Тебя же отсюда теперь бог знает сколько времени не выпустят. Может, неделю, может, больше! Срочно позвони маме, скажи, чтобы взяла отпуск. Скажи — от Саши привет. Скажи, что я на неё не в обиде.
— Саша, открой! Я хочу быть с тобой!
— Танечка! — голос Когана сорвался. — Не подходи сюда! Ничего не трогай! Обещай мне! Обещаешь? Ты мне по телефону звони, я буду к телефону подходить, пока смогу. У меня может быть есть ещё день-два. Ты береги себя, Танечка! Я люблю тебя. Не повезло нам с тобой… Танечка… У тебя еще вся жизнь впереди… Наташке расскажи обо мне, когда подрастёт. А сюда не подходи, обещаешь? Ты меня слышишь?
Ответа он не услышал. Сидя на полу под дверью, Татьяна сотрясалась от беззвучных рыданий.
Нарком здравоохранения
Слово «чума» произнесено, и закрутились колёса огромной государственной машины. Главврач Ново-Екатерининской больницы звонит с этим сообщением наркому здравоохранения. Нарком покрывается испариной и рушится в кресло. Он вёл заседание коллегии, он тесно контактировал с Зархиным. Его охватывает озноб и ему с трудом удаётся взять себя в руки. Какой у лёгочной чумы инкубационный период? Медицинская энциклопедия на букву «ч». У наркома дрожат руки. От суток до семи… Передаётся через контакт, воздушно-капельным путём. Кашлял ли Зархин на заседании коллегии? Ему было плохо, это было видно, но кашлял ли? Не помню… Необходимо срочно организовать карантин и изолировать всех контактировавших с Зархиным в последние сутки. Это значит — всю коллегию Наркомздрава, включая его самого — его самого в первую очередь, он тесно контактировал.
Нарком звонит своему заместителю Колесову: в городе ЧП, в Ново-Екатерининской больнице чума. Да-да, лёгочная чума. Привёз из Саратова Зархин, сегодняшний докладчик на коллегии, из Саратовского «чумного» института. Я с ним близко контактировал и выбываю из игры. Делегирую вам все свои полномочия. Возьмите на себя организацию экстренных карантинных мероприятий. Срочно освободите больницу на Соколиной горе под чумной карантин.
Нарком достаёт из шкафа бутылку коньяка и хрустальную рюмку. Передумывает, идёт в ванную, тщательно моет руки и чистит зубы, обильно сплёвывая воду. Невесело усмехается своему отражению в зеркале: «Вот идиот! Не нарком здравоохранения, а дядя Федя истопник». Нарком возвращается в кабинет. Его передвижения разбудили жену, она появляется в дверях кабинета.
— Ирина, немедленно назад! — таким страшным голосом кричит нарком, что жена отшатывается. — Не выходи из комнаты! Сейчас я тебе всё объясню! Чума!
На Лубянке
Замнаркома здравоохранения едет по ночной Москве. Вот и Лубянка — здесь ожидает его Очень Высокое Лицо.
— Здравствуйте, Николай Павлович! Нам нужна ваша экстренная помощь. В Москве чума!
Высокое Лицо в недоумении.
— Чума? Откуда?
— Привёз из Саратова сотрудник противочумного института.
— Не сомневайтесь, накажем! Он наверняка действовал не один. У вас есть предположения? Список? Подготовьте список, дальше мы будем действовать сами.
— Николай Иванович, вы меня не поняли. Вернее, не совсем правильно поняли, — быстро поправляется Замнаркома. — Речь идёт не о вредительстве, а о преступной халатности научного сотрудника, в результате которой он заболел лёгочной формой чумы и вряд ли переживёт эту ночь. От лёгочной чумы нет спасения. Но дело сейчас не в нём. Москве, а возможно и всей стране угрожает катастрофа. Заболевший контактировал со множеством людей, ехал в Москву на поезде, остановился в гостинице «Националь», делал сегодня доклад на коллегии Наркомздрава, после доклада его отвезли обратно в гостиницу. Мы не можем точно сказать, начиная с какого момента контакт с ним стал представлять смертельную опасность: лёгочная чума — капельная инфекция, её относят к разряду особо опасных; в начальном, продромальном периоде больной не очень заразен, но внезапно наступает момент, когда контакт с ним со стопроцентной вероятностью приводит к заражению контактирующих. Если в течение суток не будут выявлены и изолированы все контактировавшие с заболевшим — размер грозящего нам бедствия трудно предсказать… При нашей скученности… Даже в средние века, когда народу в Москве было куда меньше, от чумы вымирали целые кварталы. А сегодня опасность эпидемии выросла неизмеримо, а лекарств по-прежнему нет….
Дело к ночи. Небольшой зал на Лубянке до отказа забит на редкость одноликой массой. В Президиуме — Замнаркома здравоохранения и Очень Высокое Лицо. На трибуне — главный эпидемиолог. Часы за его спиной показывают час ночи.
— Наша неотложная задача — выявить и изолировать в карантин всех контактировавших с больным Зархиным с момента его отъезда из Саратова. По степени опасности, которую они представляют для окружающих, их можно разбить на две группы. До тех пор, пока больной не начал кашлять, вероятность заражения невысока. К этой категории надо отнести лиц, ехавших с ним в поезде, в одном купе, хотя полностью исключить возможность их заражения нельзя. Более опасны те, кто контактировал с заболевшим, когда у него появились явные признаки острого заболевания. В эту группу, безусловно, входят все присутствовавшие на коллегии Наркомздрава, где он сегодня делал доклад. Мы вынуждены отнести членов коллегии Наркомздрава к особо опасной группе. Ещё большую опасность представляют лица, контактировавшие с больным после заседания коллегии, потому что вероятность заражения при контакте с больным, находящимся в острой фазе, близка к ста процентам.
— В связи с этим мы организуем две карантинные больницы: в одну, где уже находится заболевший, будут помещены лица, безусловно представляющие смертельную опасность для окружающих — те, кто контактировал с больным в гостинице после коллегии. В другую, на Соколиной горе, которая будет освобождена для этой цели через два часа, будут помещены члены коллегии Наркомздрава и те, кто контактировал с больным ранее.
— Всех контактировавших в Зархиным надо изолировать не позже, чем сегодня к 9 часам утра. Примерно к этому времени относятся первые контакты Зархина с персоналом и обитателями гостиницы «Националь». Теперь что касается коллегии Наркомздрава. Заседание коллегии началось в 15:00 и закончилась в 17 часов. В случае, если лица, контактировавшие с Зархиным на коллегии, инфицированы, к 9 часам утра они будут находиться ещё в инкубационном периоде, когда опасность распространения ими инфекции ещё невелика. Когда инкубационный период закончится, они станут источниками распространения инфекции, но к этому времени они будут уже изолированы в карантин на Соколиной горе. Все, кто контактировал с Зархиным после возвращения в гостиницу, будут изолированы в карантин в Ново-Екатерининской больнице.
— Считаю необходимым ознакомить вас с основными симптомами заболевания. Первые признаки: тяжёлый озноб, лихорадка, боли в спине, во всем теле; внезапно появляется кашель, и, как я уже сказал, именно с этого момента контакт с больным становится смертельно опасными.
— И последнее. Это чрезвычайно важно. Не менее, чем сама болезнь, опасна паника в городе. Она помешает нам выявить очаги заболевания, если такие появятся, помешает организовать противоэпидемические мероприятия. Слово «чума» категорически не должно произноситься — нигде, ни при каких обстоятельствах, ни в собственной семье, ни при проведении операции. Я закончил.
Встаёт Очень Высокое Лицо.
— Я надеюсь, всё ясно. Операция получает кодовое название «Контакт». Повторю ещё раз. Не менее, чем сама болезнь, опасна паника в городе. Слово «чума» категорически не должно произноситься — нигде, ни при каких обстоятельствах, ни в собственной семье, ни при проведении операции. Виновные будут сурово наказаны.
— Теперь о конкретных мероприятиях. Первое. Изоляция контактировавших должна выглядеть м-м-м… абсолютно банально. Изоляция должна выглядеть как арест. Ни сами изолируемые, ни их семьи не должны подозревать их истинную причину. Второе. Время сейчас — жизненно важный фактор. Каждый час промедления может стоить жизни миллионам, и в первую очередь — каждому из нас. Третье. После того, как вы вывели изолируемого из квартиры и посадили в машину, вы надеваете на его лицо специальную маску, предварительно убедившись, что вас не видно с улицы. Сейчас вам покажут, как ею пользоваться.
— За изоляцию врача, шофёра и санитара скорой помощи отвечает полковник Сергеев. За контактировавших в гостинице после коллегии — Стрельцов. За контактировавших на коллегии — Емельянов. За контакты в гостинице до коллегии — Петренко. За контактировавших в поезде — Лабущев. Приступайте. Об исполнении докладывать немедленно.
Часы в зале показывают 12:15. Из ворот Лубянки один за другим выезжают воронки. Снаружи Лубянка светится, как иллюминированная. Горят почти все окна. Счёт времени отныне идёт на часы и минуты.
Ново-Екатерининскую больницу опоясывают тройным оцеплением. Отныне отсюда не выйдет ни один человек, вход или въезд — только по специальным пропускам. Бьётся в истерике санитарка, оставившая дома грудного ребёнка. Татьяна тихо рыдает, сидя на полу в коридоре около приёмного покоя. Солдат в плотной маске протягивает руки, чтобы помочь ей встать и увести её оттуда, но она подняла на него такие бешеные глаза, что он отпрянул. Татьяна стонет чуть слышно: «Саша! Сашенька! Родной! Не умирай! Нельзя тебе умирать! Сашенька! Ты здоров, правда? Ответь мне! Ответь, Сашенька! Я сама буду писать тебе все твои письма, только не умирай!» Её тихие рыдания заглушает перекличка оперативников, которые перекрывают сообщение между этажами.
Во дворе больницы солдаты в длинных тулупах разводят костры и топчутся вокруг них, пытаясь спастись от лютого мороза.
«Аресты»
Воронки носятся по Москве, собирая контактировавших. Вереница их подъезжает к гостинице «Националь». На глазах у праздных ночных зевак (проходим, граждане, проходим!) из дверей гостиницы выводят и погружают в машины персонал и обитателей. Прохожие наблюдают это с ужасом и острым любопытством, и завтра по Москве поползут самые невероятные слухи…
Васильевы
Елена Васильева в ужасе смотрит на ночных визитёров.
— Его нет, он уехал в командировку.
— Когда уехал?
— Сегодня вечером. То-есть уже вчера.
— Куда он уехал?
— Не знаю.
— Вы его супруга?
—Да.
— Имя-отчество?
— Елена Сергеевна.
— Послушайте, Елена Сергеевна, это же смешно. Вы не знаете, куда уехал ваш муж. Через полчаса мы это узнаем без вашей помощи через его отдел кадров. Но эти полчаса очень важны сейчас. Помогите нам — это и в ваших, и в его интересах. В наших общих интересах. Поверьте.
Елена молчит. Она близка к обмороку.
— Не знаю, — повторяет она чуть слышно. — Я ничего не знаю.
— Он уехал в Ленинград. Стрелой. — сообщает Серёжа из-за её плеча.
— Спасибо.
Ночные визитёры покидают квартиру.
— Предатель! — кричит Алёна. — Ты предатель! — Она смотрит на мужа так, словно видит его впервые, но в глазах её вместе с потрясением, ужасом, отвращением читается надежда, что всё происходящее — ночной кошмар, и надо только проснуться, чтобы всё стало на свои места.
— Серёжа, как вы могли, — отстраняя, исключая Серёжу этим «вы» говорит Елена.
— Елена Сергеевна, поймите, они бы действительно через полчаса всё узнали, но они были бы раздражены. Их нельзя раздражать! Эти полчаса нам бы ничего не дали — что мы можем сделать?! Я сделал, как лучше для Евгения Александровича.
— Да, Серёжа, возможно, вы правы. Только вы — Елена подчёркивает это «вы» — вы не должны были этого делать.
Сидя на полу в углу коридора, бьётся в истерике Алёна.
— Не подходи! Не смей ко мне прикасаться! — кричит она вконец растерявшемуся Сергею.
Елена вдруг ощущает потребность немедленно действовать. Она бросается в комнату и начинает лихорадочно вытаскивать из шкафа тёплые вещи мужа: что туда можно? Сколько? И куда сейчас? В Ленинград? Или его привезут в Москву? Нет, конечно надо начать поиски с Ленинграда. Зубная щётка, мыло — при нём. Пару носков. Спортивный костюм.
На эти сборы уходят её последние силы. Она застывает на стуле, обхватив руками голову. Алёна рыдает в углу коридора. Серёжа уходит за свою ширму. Стряхнув оцепенение, Елена подхватывает чемоданчик и выбегает из квартиры.
Глубокая ночь. Станция Бологое. Заспанные пассажиры в пижамах высовываются в коридор в поисках проводника: почему так долго стоим? А тем временем из вагона в вагон, будя спящих, ослепляя их направленным в глаза лучом фонаря, ходит милиция: идёт проверка документов.
Васильев спросонья долго не может понять, чего от него хотят. Чертыхается, копается в висящем на плечиках пиджаке, достаёт паспорт. Милиционеры переглядываются: попался!
— Предупреди Черных, пусть прекращает. А вы, гражданин, быстро собирайтесь! Пройдёмте.
— Куда? — ещё не осознавая происходящего, спрашивает поражённый Васильев.
— Вам придётся пройти с нами.
— Вы уверены, что именно мне? Это ошибка. У меня очень распространённая фамилия, — в глазах Васильева теплится еще слабый, неуверенный огонёк надежды.
Оперативники не удостаивают его ответом.
— Поторопитесь. Пройдёмте.
— Куда его?
— Во встречный, на Москву. Радируй, чтобы освободили купе.
Васильев не сразу попадает в рукава пиджака…
Журкины
Журкин принял «гостей» спокойно и без удивления — как ждал. Потрясена его жена:
— Леонид, это ошибка! Это безусловно какая-то ошибка! Я завтра же всё выясню…. Это ошибка, ошибка, — повторяет она, как заклинание. — Я завтра же всё выясню, тебя немедленно освободят.
Леонид Петрович, наконец, оделся, ищет запасную пару носков — эти рваные, берёт другую — тоже рваные.
— Ничего не берите с собой, вам там ничего не понадобится, — отдают загадочное распоряжение ночные визитёры.
Полковник Петров
Полковник Петров вернулся из гостиницы «Националь» в очень подавленном настроении. Вид Зархина не оставлял у Петрова сомнений — он не жилец. Зархин не был его близким другом, но он был одним из немногих, кто после ареста Тухачевских не шарахался от Петрова и не обходил его за версту. Стремительное развитие болезни Зархина поразило Петрова и показалось зловещим. Его постоянное состояние внутренней тревоги дополнилось щемящей тоской. Он смертельно устал. Петров прилёг на диван и даже, кажется, задремал, но в полночь поднялся, выключил в комнате свет и занял свой обычный ночной пост у окна. Воронки, носящиеся по Москве по ночам, сегодня как взбесились. Вот один снижает скорость и разворачивается к его дому. Тормозит у его подъезда. Вот оно — то, чего полковник Петров ожидал два мучительных года. Двое выходят из машины и идут в его подъезд. За минувшие годы полковник всё рассчитал по секундам. Он идёт к письменному столу, отпирает ящик. Пластинка с дарственной надписью на ручке револьвера поблескивает в свете уличного фонаря. Звонок в дверь точно совпал по времени с выстрелом…
Доктор Коссель
Глубокая ночь. Доктор Коссель спит, похрапывая.
Старушка Коссель сидит перед портретом сына. Звонок в дверь. Ну, наконец! Она так давно этого ждала, она знала, что Дима вернётся! Вся сияя, Ася Коссель спешит к двери. Но это не Дима. Два человека в штатском спрашивают доктора Косселя. Ночной вызов?
— Илюша, эти товарищи к тебе.
Коссель не сразу возвращается из сна к реальности. Но проснувшись, мгновенно осознаёт катастрофу и долго не может попасть трясущейся ногой в штанину. «Товарищи» ждут, нетерпеливо озираясь. Взгляд одного из них падает на портрет:
— Ваш сын?
— Да.
В глазах оперативника мелькает что-то вроде человеческого сочувствия.
— Я читал в газетах. Какое несчастье.
И вдруг, покосившись на товарища, он быстро произносит:
— Не пугайтесь, всё будет хорошо.
Всё будет хорошо… Ася совсем беспомощная, она умрёт с голоду в первые же дни. Её нельзя оставлять одну…
— Нельзя ли… нам с женой… вместе?
— Нет. Это не положено.
— Асенька! Я должен уехать на срочный вызов. Я могу задержаться на несколько дней. Ты понимаешь? Не исключено, что я задержусь на несколько дней. Ты должна утром выйти в булочную, это соседний дом, ты помнишь? Купи булку. И молочная рядом, возьми бутылочку молока. Асенька, вот деньги, не столике. Ты видишь? Ты купишь? Ты поешь? Асенька!
Внезапно старушка Коссель ясно осознаёт ужас происходящего, как будто падает завеса, отгораживавшая её от мира, обнажает руины, высвечивает катастрофу, которая происходит сейчас с её мужем.
— Илюша! Не беспокойся, родной! Я буду делать всё, как ты говоришь. Не беспокойся за меня. Береги себя, родной! Ты всё взял, что там надо? Я передам тебе вещи, родной. Я найду тебя. Я буду приходить…
И наступает минута прощания. Оба понимают — это их последняя общая минута в этой жизни. Коссель уходит с «товарищами».
О чем мог думать несчастный старик? В машине Коссель выискивал в своей жизни поводы для ареста — и не находил (стереотипная ситуация). Он уже начал думать, не связано ли это как-то с гибелью сына — может, того в чем-то посмертно обвинили?
Крутоголовых
Крутоголовых не торопится. Оленька оказалась крепким орешком, но тем слаще будет победа. Крутоголовых не сомневается в успехе: не первый день на свете живёт. На столе в вазе, даром что декабрь, цветы — розы: Пётр Федосеевич знает толк в этих делах. В бокалах пузырится шампанское, на тарелках — икра, рыба, помидорчики. Оленька ни к чему не притронулась, зато хозяин поужинал на славу. Сейчас он ведёт очередную атаку, пядь за пядью завоёвывая вражескую территорию: вот рука скользнула в вырез Оленькиной блузки, на секунду задержалась там и выпорхнула обратно, чтобы через мгновение вернуться более решительно в поисках глубже запрятанных тайн. Другая рука одобряет безупречную форму Оленькиной коленки и легко скользит вверх по шёлку чулка. Оленька содрогается от отвращения, но Крутоголовых уверен: отвращение к Тюмени и необходимость остаться в Москве из-за тяжёлой онкологической болезни матери пересилит естественный, милый его сердцу девичий стыд. Ещё глоток шампанского… И в этот самый момент, так некстати, взрывается дверной звонок — долгий и зловещий… Покрывшись испариной, с трудом выпростав дрожащую руку из Оленькиного декольте, Пётр Федосеевич идёт открывать дверь…
Входят двое:
— Документы, гражданка!
Проверив и что-то себе записав, они возвращают Оленьке паспорт и перестают обращать на неё внимание. Секунду поколебавшись, Оленька выскальзывает за дверь.
— Собирайтесь, гражданин!
Крутоголовых вдруг начинает очень суетиться. Он бросается к висящей на стене репродукции картины «Мишки в сосновом бору», снимает её с крючка, обнажая маленькую потайную дверцу:
— Запишите в протокол! Я сам! Я добровольно! Я чистосердечно!
Крутоголовых суёт в руки оперативникам туго набитые конверты. Те переглядываются, усмехаются, пожимают плечами, рассовывая конверты по карманам, и направляются к дверям:
— Пройдёмте!
Бурханова
Часы в кабинете Ответственного Лица показывают 5:15. Лубянка светится огнями. Чьи-то умелые руки быстро перебирают папки. На каждой — номер дела, фамилия. Другие руки листают списки, в которых против каждой фамилии уже стоят галочки. Главный эпидемиолог в кабинете Ответственного Лица контролирует процесс изоляции.
Одна страница, другая, третья — и вдруг… Что это?? Бахор Бурханова, певица. Гостиница «Националь». Убыла в 18:30.
— Бурханова? Узбечка, гастролировавшая в Большом театре? Убыла, вероятно, домой? Да вы понимаете, что такое Средняя Азия для чумы? Это как спичка для облитого бензином хвороста! Она одна может запалить гигантский пожар! Немедленно снять ее с поезда и изолировать! Времени для этого в обрез! Опросите сотрудников гостиницы, могла ли она контактировать с заболевшим!
Ответ из гостиницы страшен своей беспощадной реальностью: Бурханова жила в соседнем с Зархиным номере, тесно с ним контактировала, помогала ему заполнять анкеты…
Теперь время — жизнь! Мгновенно формируется специальный поисковый отряд. Его задачи: узнать в Большом театре, покупавшем ей билеты, номер её поезда и вагона. Вагон этот отцепить и оцепить на следующей остановке. Бурханову забрать и поместить в изолятор инфекционной больницы ближайшего районного центра. В вагоне, в котором она ехала, организовать карантин, из вагона никого не выпускать. Как будто всё.
Красавец певец, провожавший Бурханову к поезду, в полном недоумении смотрит на чуть не разнесших его дверь НКВДэшников: спросонья он долго не может понять, чего от него хотят и при чем здесь Бурханова. С великим трудом оперативникам удаётся извлечь из него необходимую информацию: Бурханова уехала домой поездом Москва-Ташкент, десятый вагон. Его, наконец, оставляют в покое. Пожав плечами, он идёт досыпать. У молодого певца были завидные нервы.
Летят радиограммы в Рузаевское НКВД, куда вот-вот должен прибыть состав, и машинисту поезда: задержаться в Рузаевке, отцепить и оцепить 10-й вагон. Ни одна живая душа не должна из него выйти; подготовить карантинные палаты в местной инфекционной больнице; поместить туда лиц, ехавших с Бурхановой в том же купе. Бурханову изолировать в отдельную палату.
А тем временем поезд несёт Бурханову навстречу наступающему утру. Вагон спит, и только певица ворочается и постанывает на нижней полке: ей явно нездоровится. Проснувшийся сосед видит, что она не спит, и спрашивает шепотом, смущаясь:
— Прошу прощения. Я вчера не решился спросить. Вы ведь певица, выступавшая в Москве, в Большом театре? Бурханова?
— Да, — подтверждает певица, тщетно пытаясь стереть с лица гримасу боли, но молодой человек так потрясён, что ничего не замечает:
— Подумать только! Ехать в одном купе со знаменитой певицей! Вы не дадите мне автограф? В моём общежитии все умрут от зависти, а на слово мне никто не поверит… Я ещё вчера понял, что это вы: видел ваши фотографии на афишах.
Скороговоркой произнося всё это, молодой человек ищет в своем нехитром скарбе, что бы подсунуть певице для автографа. А ей всё хуже, лицо то и дело искажается от боли.
В Разуваевке предрассветные сумерки. Круглые часы на здании станции показывают 6:45. Репродуктор вещает неживым женским голосом, одинаковым на всех станциях мира: поезд номер… Москва-Ташкент прибыл на первый путь. Человек десять штатских молча наблюдают, как железнодорожники отцепляют вагон где-то в середине состава. «Голова» поезда тотчас отъезжает, и почти тут же за отцепленным вагоном приезжает локомотив и отвозит его на запасной путь: здесь незадачливым пассажирам десятого вагона предстоит отбывать карантин. Вагон окружают солдаты. Всё сделано очень оперативно, согласно инструкции. Два оперативника идут по отцепленному вагону, зорко вглядываясь в перепуганных, ничего не понимающих пассажиров. Вот и купе Бурхановой, но… её место пустует. Певица? Её сняли в Потьме. Заболела совсем — объясняет узбек-проводник. — В медпункт отвели, туда скорая помощь подъехала. Сейчас, наверное, в больнице.
И снова Лубянка. Часы в кабинете показывают 7:15. Встревоженные, помятые после бессонной ночи лица. Кто-то кричит в телефон: выяснить, куда отвезли снятую с поезда больную, больницу оцепить, никого не выпускать, для больной освободить отдельную палату, персоналу входить только в масках и двойных халатах, об исполнении доложить немедленно.
Крошечная сельская больница в Потьме окружена милицией. Двое штатских, оба в масках, идут в кабинет Главного врача. Указание из Москвы: больную Бурханову немедленно изолировать в отдельной палате; строжайший карантин для всех.
— Но Бурхановой у нас нет, — объясняет Главный врач. — Да, была госпитализирована с почечной коликой. Сделали обезболивающее, боли сняли, она почувствовала себя лучше и ушла под расписку, чтобы продолжить путь домой первым же подходящим поездом. Чемодан её огромный помогли ей оттащить на вокзал.
— Не было ли это похоже на острое инфекционное заболевание?
— Помилуйте, нет. Почечная колика. Что вы имеете в виду? Не можете сказать? Нет, на инфекционное заболевание не похоже, хотя всё, конечно, бывает…
А время идёт — неумолимое время, отсчитывающее часы и минуты, отпущенные огромной стране для нормальной жизни.
Движутся стрелки на часах Ответственного лица.
Милицейская «эмка» мчит из больницы на вокзал. Бурхановой нет: уехала только что проходящим поездом, пересядет, наверное, в Самаре, а может — в Оренбурге…
По следам «арестов»
Длинная скорбная очередь измученных, молчаливых, очень чем-то похожих людей, медленно продвигается к заветному окну. Возрастной и социальный состав их чрезвычайно пёстрый: здесь и совсем ещё дети, и старушки из «бывших», интеллигенция, и простые работницы в телогрейках и тёплых платках грубой шерсти — в основном раздавленные горем женщины. В измождённой, едва держащейся на ногах седой женщине мы едва ли узнали бы Елену Васильеву, если бы не её разговор с соседкой:
— А если окажется, что его и здесь нет? Куда ещё идти? Где у вас могут хоть что-то сказать?
— Нигде вам, милая, ничего не скажут. Если здесь нет — возвращайтесь в Москву. Может, его туда отвезли, там скорее найдёте. Да вероятней всего, что сняли с поезда — и в Москву. Зря вы по нашим тюрьмам — только время тратите…
По тому, как Елена отходит от окошка, ясно, что она и на этот раз ничего не узнала. По закоченевшей от мороза ленинградской улице медленно бредёт к Московскому вокзалу та, что вчера ещё была молодой и прекрасной Еленой Васильевой. В Москве она продолжит поиски на Лубянке, в Лефортово, в Бутырке, и будет всюду выслушивать однотипный ответ: «Не числится».
В поезде Елена не спит. Мелькающие мимо фонари то и дело высвечивают её невидящий, устремлённый в одну точку взгляд…
А дома её ждёт новость: ушёл Серёжка. Бледная, осунувшаяся Алёна встречает её в коридоре и говорит, отводя взгляд:
— Знаешь, у Сергея мама что-то плохо себя почувствовала и попросила его пожить с ней. Мам… Что-то меня сегодня утром рвало… Я не хочу… от Сергея…
Так и не успев снять пальто, Елена Сергеевна рушится на стул: для одной недели это слишком. Уютный, радостный, хорошо организованный мир рассыпается, только щепки летят — не остаётся ни одной прочной балки и не за что ухватиться… Алёна мчится к аптечному шкафчику за сердечными каплями.
Журкина
После ареста Леонида Петровича Нина Константиновна Журкина не сомкнула глаз. По годам, по дням вспоминала она их совместную жизнь. Скромное бракосочетание — никакой свадьбы: она не хотела этого мещанства, просто пошли и расписались. Потом его бесконечные разъезды по стране, полыхавшей эпидемиями — инфекционист Журкин вечно лез в самый очаг болезни. Нина Константиновна возвращалась памятью к началу тридцатых, к голоду на Украине, к распухшим от голода людям, умиравшим на улицах и дорогах. Что он говорил тогда? Что-то поразившее её, страшное…Что то, что происходит, — либо роковая ошибка, либо преступление. И потом, в тридцать четвёртом, он ничему не верил, он сомневался. Он всегда сомневался. И когда старые большевики, друзья её отца, были разоблачены как враги, он не верил. И когда разоблачили и арестовали продавшихся иностранным разведкам военных — он сомневался, он не верил. И говорил об этом. Он не верил тому, что писала центральная печать!..
И вдруг Нине Журкиной открылась страшная истина: всю свою жизнь она прожила с врагом, с отщепенцем. С человеком, не поддерживавшим, не одобрявшим линию партии. Может быть, даже… Нет, не может быть! Но с другой стороны — почему не может быть? Они так много ездили, встречали стольких людей — разве Нина Константиновна всегда знала, что это были за люди? Ведь Леонид был близок, очень близок с некоторыми ныне разоблачёнными друзьями её отца…. Нина сидела в постели, лоб её был покрыт мелкими капельками холодного пота. Кто-то оказался прозорливее её и сообщил о нём властям. Ехать! Ехать немедленно, не дожидаясь утра! Всё рассказать! Сейчас же! Она не может, не в состоянии одна нести этот груз! И Нина Журкина стала быстро, судорожно одеваться…
— Николай Евграфович, там в проходной жена изолированного Журкина, настаивает, чтобы ее приняли.
— Жена Журкина? Ах, да, это же дочь Вербова, моего старого приятеля. Думает, что мужа арестовали, пришла за него просить, а мы ей ничего не можем сказать. Ладно, пропусти, скажу ей, что сделаю всё, что смогу.
На впалых щеках Нины Журкиной нездоровые пятна, глаза горят фанатической решимостью.
— Здравствуйте, Нина Константиновна! Мы с вами давно не встречались. Последний раз, по-моему, на похоронах Константина Ильича, на Новодевичьем. Нина Константиновна, я догадываюсь, что привело вас к нам…
— Да я поняла, что не могу жить с этим грузом, рассказать вам все мой долг перед памятью отца…
— Нина Константиновна…
— Вчера после его ареста я всю ночь перебирала по годам нашу жизнь. Мне и раньше многое казалось в нём чуждым, но я не понимала, и только вчера наконец поняла…
— Нина Константиновна…
— Он был дружен с некоторыми друзьями моего отца, теперь разоблачёнными… Он был полон сарказма, не верил центральной прессе. Я не могу молчать. Я вам всё расскажу…
— Нина Константиновна…
— В тридцать четвёртом году, после злодейского убийства Сергея Мироновича Кирова…
— Минуточку, Нина Константиновна.
Николай Евграфович тяжело вздыхает и вызывает стенографистку…
…По поездам, идущим в Среднюю Азию, из вагона в вагон, из купе в купе ходят оперативники: они ищут Бурханову. Дежурят на вокзалах в Самаре и Оренбурге, в Кызылорде и Ташкенте. Дежурят у театра, дежурят у дверей её квартиры: Бурханова как сквозь землю провалилась. Неумолимые часы в кабинете Высокого Ответственного Лица свидетельствуют об истечении контрольного срока, а Бурхановой нет. Сотрудника, ответственного за изоляцию гостиницы «Националь» и проморгавшего Бурханову, арестовывают и обвиняют в сознательном вредительстве. Ответственное Лицо близко к инфаркту: счёт утекающего времени может быть оплачен миллионами человеческих жизней, судьбой целой страны. И этот счёт будет предъявлен ему, Ответственному Лицу, лицом ещё более ответственным…
Бурханова в это время гостит в Самаре у подруги-певицы, которую случайно встретила в поезде на пути из Потьмы. Ей ещё нездоровится после приступа, и предложение подруги провести у неё несколько дней приходится весьма кстати.
Слухи
А по Москве, несмотря на все предосторожности, ползут страшные слухи. Да и какие, право, предосторожности, когда оцеплены гостиница «Националь» и Ново-Екатерининская больница, и солдаты в длинных тулупах кружатся вокруг разведённых ими костров, как существа из другого мира и другого века… Раскрыта террористическая организация, отравившая водопроводную воду в центре города, и все, кто пил её, сейчас умирают в Ново-Екатерининской больнице... В заграничных консервах — холера, да такая злая, что эпидемия её свирепствует, несмотря на лютый мороз… Врачи и фармацевты отравили лекарства, их поймали и будут судить… Шепчутся сотрудники в учреждениях, говорят бабки в очередях и транспорте. Распускающих слухи ловят и изолируют отнюдь не на Соколиную гору.
На осадном положении Московский уголовный розыск (МУР): родственники пропавших сотрудников гостиницы «Националь» разыскивают своих близких. В коридоре МУРа, в ожидании приёма делятся своими историями, и постепенно вырисовывается устрашающая картина: все пропавшие работали вместе и исчезли в один день. Это рождает новую волну слухов и домыслов: в подвале гостиницы «Националь» обнаружен радиопередатчик и бомбы, все сотрудники арестованы, идёт следствие…
Ново-Екатерининская больница. Коган
А в Ново-Екатерининской больнице в это время умирает Зархин. Коган суетится около него со шприцем. Он осунулся, лицо заострилось, под глазами чёрные мешки. Ему уже нездоровится и, наблюдая мучения Зархина, он проходит вместе с ним все стадии своей будущей агонии. Болезнь его развивается стремительно из-за высокой дозы бактерий, которые он непрерывно получает от своего пациента. В перерывах между инъекциями Зархину он пишет своё последнее письмо: «Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович…». Рядом лежит письмо, адресованное человеку, который войдёт в эту палату после его смерти, с просьбой запомнить письмо Сталину наизусть, переписать и отослать. Эти письма сожгут вместе с погибшим.
Гольдин
После смерти Зархина и Когана встал вопрос о вскрытии погибших. Для этого необходим был опытный патологоанатом, способный подтвердить или опровергнуть страшный диагноз. Выбор Наркомздрава пал на Гольдина. Два оперативника в штатском приехали за ним следующей за изоляциями ночью и, ничего не объяснив, привезли в Наркомздрав. После вскрытия Гольдин подробно описал всё, что последовало за его «арестом».
«Было около часа ночи, когда за мной приехала машина и доставила меня в Наркомздрав. Там царила обстановка военного времени: все помещения, несмотря на ночь, освещены, сотрудники суетятся с озабоченными лицами, кто-то спит в углу на раскладушке… Кажется, тот же Колесников ознакомил меня с сутью дела и попросил произвести вскрытие тела больного, умершего в Ново-Екатерининской больнице с подозрением на чуму. Разумеется, я дал согласие — при условии, что не буду отправлен в карантин. Условие было принято.
После процедуры переодевания в противоипритный непроницаемый костюм, уже под утро, я был доставлен в больницу. По дороге заехал к себе в лабораторию за инструментами для вскрытия.
Своеобразную картину застал я в Ново-Екатерининской больнице. У входа в здание на часах, одетые в длинные до пят тулупы, стояли часовые с винтовками (был жестокий мороз зимы 1940 года). Такие же часовые у ворот. В самой больнице — взволнованная тишина. Встретил меня комендант больницы, мой давнишний друг профессор Лукомский. Мы выпили чаю, побеседовали в ожидании специалиста-бактериолога, который должен был присутствовать при вскрытии для взятия материалов с целью бактериологического исследования.
Я не стану описывать саму процедуру вскрытия. Она производилась в необычной обстановке — в изоляторе больницы, у просмоленного гроба, куда был заранее положен санитарами труп — обстановка, прямо сказать, малопривлекательная даже для профессионала…
Усталый после бессонной и волнующей ночи, я после вскрытия вернулся в отведенную мне комнату, где была моя одежда. Едва войдя, услышал щелчок дверного замка и убедился: заперт. Стал стучать в дверь, требовать, чтобы меня выпустили, как было условлено. Голос из-за двери ответил мне, что они не имеют на это права. Я понял, что попал в отряд «зачумленных» и попросил, во-первых, дать мне стакан чаю, а, во-вторых, снестись с Наркомздравом, чтобы убедиться, что, согласно условию, я не подлежу изоляции в карантине. Я действительно считал это бессмысленным, так как принял все необходимые для самообеззараживания меры предосторожности. Оба моих требования охранники выполнили. Сначала щелкнул замок в двери, приоткрылась узкая щель, чья-то рука поставила на пол стакан с чаем, и дверь снова защелкнули. Затем, спустя какое-то время, вошел профессор Лукомский и сообщил, что я действительно могу покинуть больницу! Я немедленно отправился в Наркомздрав, чтобы сообщить предварительные результаты вскрытия.
Из руководителей Наркомздрава на месте оказался член коллегии А. (многие ведь были в карантине). Его секретарша, знавшая меня, встретила меня очень приветливо и пошла доложить начальству. А минуту спустя дверь кабинета слегка приоткрылась, в щель просунулось перепуганное лицо той же секретарши, и она пролепетала, что согласно указанию А. я должен немедленно отправиться в карантин. Обозленный, я выпалил: «Передайте ему, чтобы он сам убирался к черту!» — и поспешил покинуть Наркомздрав, пока меня не заарканили. Затем я поехал на кафедру патологической анатомии в Яузскую больницу и оттуда позвонил жене, чтобы привезла мне чистое белье и другой костюм. Тщательно помывшись под душем и переодевшись, я поехал с женой домой, усталый и взволнованный всеми событиями прошедшей ночи.
Но не успел я лечь в постель и уснуть, как раздался телефонный звонок. К телефону подошла жена, и по ее разговору я понял, что сейчас за мной опять приедут, на этот раз из Моссовета и из Управления здравоохранения с тем, чтобы везти меня в Первую Градскую больницу (Б. Калужская улица, теперь Ленинский проспект) для производства чрезвычайно важного вскрытия, требующего моей компетенции. Жена, разумеется, догадалась, какого сорта вскрытие мне предстоит, и ответила категорическим отказом, сказав, что я сплю после трудного дня. Тем не менее, через полчаса раздался звонок в передней, и я услышал бурное объяснение жены с посетителями. Они говорили, что в хирургической клинике Первой Градской больницы умер от чумы больной, что больница уже изолирована от внешнего мира, и нужно путем вскрытия подтвердить диагноз чумы. Жена возражала: «Неужели в Москве нет других опытных патологоанатомов?!», на что один из посетителей привел такой контраргумент: «Не можем же мы заражать чумой всех патологоанатомов!» Аргументация, безусловно, убедительная и корректная, но мою миролюбивую и деликатную жену она привела в исступление.
Я понял, что имею дело с дураками, но в больнице, консультантом которой я был, создалась, по-видимому, сложная ситуация, нарушившая всю ее нормальную жизнедеятельность. Я не сомневался, что никакой чумы там нет, что все это — вздор, продиктованный страхом и паникой. Как потом оказалось, в этот день по примолкнувшей Москве поползли слухи о смерти от чумы чуть ли не в каждом районе города. В атмосфере одуряющего страха любая устрашающая версия принималась за достоверную, чему способствовали все предыдущие дни и годы, когда получали подтверждение, казалось бы, самые невероятные события и ситуации. Для обывателей в Москве в эти дни не было другой причины смерти, кроме чумы.
Я решил, что ехать надо, чтобы восстановить нормальную жизнь больницы и снять с медперсонала страх перед чумой, и в сопровождении посланцев Горздрава отправился в клинику. Там стояла удручающе мрачная атмосфера. Гробовая тишина. По опустевшим, притихшим коридорам бродят, как тени, сестры в глухих марлевых масках, в двойных халатах.
Встретивший нас дежурный врач изложил суть дела. В клинике был больной, молодой человек, оперированный накануне по поводу язвы желудка. Днем у него ухудшилось состояние: высокая температура, боли в животе. К нему вызвали для консультации доцента клиники В. И. К., впоследствии профессора и главного онколога Министерства здравоохранения СССР (известный ученый Н. Н. Петров, при обсуждении программы подготовки врачей-онкологов, сказал о нем по завершении этой работы: «Мы забыли записать, что главный онколог может ничего не знать»).
Так вот, этот доцент, будущий профессор, подошел к постели больного, приподнял простыню, увидел сыпь, покрывавшую тело больного, в испуге бросил простыню, произнес «чума» и немедленно сбежал.
Слово было сказано, и завертелось колесо страха. Больной, оставшийся без помощи, вскоре умер.
Еще до вскрытия я заподозрил, что имею дело с одной особенностью, встречающейся у малоопытных и мало думающих хирургов (а это почти одно и то же): при ухудшении состояния больного после операции такие лекари думают о чем угодно — о гриппе, менингите — только не о послеоперационном осложнении или ухудшении основного хирургического заболевания. Так оказалось и на этот раз: перитонит с общим сепсисом и геморрагической сыпью. Никаких признаков чумы не было и в помине.
После вскрытия все стало на свои места: сняли маски повеселевшие сестры, раскрылись ворота больницы для приема больных, нуждавшихся в экстренной помощи и лишенных ее по милости В. И. К. Вот что могут сделать страх, паника и один дурак»!
В карантине
Васильев
… В то время как Елена Васильева ищет мужа по всем известным ей местам заключения, Евгений Александрович Васильев находится в отдельном боксе инфекционной больницы на Соколиной горе. Здесь его соседом слева оказался нарком здравоохранения, справа — Крутоголовых.
Евгений Александрович, одетый, как и его соседи, в потёртую и застиранную казённую пижаму, лежал поверх одеяла, закинув руки за голову, и терялся в догадках: что думают о его исчезновении в семье. Его попытки уговорить коллегу-доктора и миловидную барышню-медсестру позвонить к нему домой и предупредить Елену о случившемся потерпели фиаско.
— Нам категорически запрещено контактировать с вашими семьями и сообщать какую-либо информацию, — объяснил врач. — Они, — он поднял глаза наверх, — боятся паники в городе. Я вполне понимаю ваше беспокойство, Евгений Александрович, но помочь, извините, не могу — не дай бог выплывет — вы же понимаете, чем мне это грозит.
Васильев понимал. Но, ставя себя на место коллеги, он понимал также, что он бы в этом случае позвонил. Он представлял себе, как, окончив работу, выходит из больницы, проезжает несколько остановок в трамвае, выходит, огладывается, убеждается, что за ним никто не следит, подходит к телефонной будке и набирает номер:
— Я звоню по просьбе вашего мужа. У него всё благополучно, но он будет вынужден на несколько дней задержаться. Не волнуйтесь, с ним всё в полном порядке. Он вернётся и расскажет вам всё сам. Всего доброго.
И всех-то дел… А сейчас — можно себе представить, что вообразила себе Елена. Ищет его, наверное, по всем ленинградским тюрьмам и моргам… Воображение Васильева рисовало ему мытарства Елены — по больницам, учреждениям, тюремным очередям, и было это очень похоже на то, что происходило в действительности, и одно только было существенное отличие: Елена рисовалась ему молодой, красивой и желанной, какой он видел её в то последнее утро.
А тем временем он, как пойманный зверь, сидит в чумном карантине. Почему-то Васильев был убеждён, что чума не имеет к нему никакого отношения, хотя именно он больше всех контактировал с несчастным Лёвкой Зархиным после злополучного доклада; именно он отправлял его в больницу. Если бы несчастье произошло, он бы, наверное, это уже чувствовал. Васильев ощупал себя в паху и подмышками, сглотнул слюну, попробовал покашлять. Да нет, всё в полном порядке. Успокоено кивнув своим мыслям, Васильев закрыл глаза.
Ему привиделся древний амфитеатр — огромное поле, вроде стадиона, с расставленными там и сям накрытыми столами, за которыми небольшие группы пирующих людей. Мимо столов едет телега, нагруженная мёртвыми телами. Васильев во сне повторяет себе обрывки пушкинских строф, которые силился, но не мог вспомнить наяву: «Царица грозная, Чума теперь идет на нас сама… Как от проказницы зимы, запремся также от Чумы!.. Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю… И девы-розы пьем дыханье, — быть может... полное Чумы»!
Средневековый амфитеатр внезапно превращается в стадион «Динамо». Умершие вскакивают с повозок и начинают гонять мяч. Один становится на ворота. Васильев слышит шум стадиона, крики болельщиков… и просыпается. За стеной кричит его сосед, Крутоголовых. Голос его постепенно переходит в визг.
Крутоголовых
…Психоз начался у Крутоголовых сразу по приезде в карантинную больницу, когда он понял, что натворил, отдав оперативникам накопленные взятками деньги. Он метался по боксу, как раненный зверь, грозя разнести вдребезги стеклянные двери, и говорил сам с собой.
— Идиот! Боже, какой идиот! Чистосердечно! Добровольно! А если они их сдадут куда надо — всё, крышка! Да нет, не сдадут, не сдадут, какой идиот сдаст! Какой идиот? Я — вот какой идиот! Сам!!! Своими руками! Всю жизнь копил! А если сдадут? Нет, не сдадут!
— Почему я здесь? — набросился он на миловидную медсестру. — Что это? Какая ещё чума? У кого чума? У докладчика? Какого докладчика? А я при чём? Я его не слушал, я на секунду забежал! Кто ещё здесь? Все? Так они разговаривали с Зархиным! А я не разговаривал, я на секунду забежал! Отпустите меня! Не входите! Не смейте ко мне входить! Не прикасайтесь ко мне! Ни к чему не прикасайтесь! Я с Зархиным не контактировал, я сидел в дальнем конце зала! Другие с ним контактировали! Здесь рядом Васильев, он разговаривал с Зархиным, он заболеет! Вы перенесёте чуму от него ко мне! Вы заразите меня чумой! А я Зархина в глаза не видел! Отпустите меня, пока я здоров! Немедленно отпустите! Переведите меня в другой бокс! Отпустите меня! Переведите! Я не буду есть! Я знаю, как вы моете посуду! Я знаю, как вы кипятите шприцы! Переведите меня отсюда! Отпустите!
Васильев в соседнем боксе услышал звон разбитого стекла. Спасаясь от медсестры, которая пришла сделать ему успокаивающий укол, в состоянии острого психоза Крутоголовых выбросился из окна…
Журкин
Журкин принял приезд в карантин как непредвиденный подарок от жизни. Он готовился к гораздо худшему. А чума… Опытный эпидемиолог, всю жизнь разъезжавший по самым горячим точкам страны, он был уверен, что с этой стороны ему ничего не грозит: с Зархиным он напрямую не общался, и хотя сидел в первом ряду на коллегии, но на значительном расстоянии от докладчика. К тому же Зархин на коллегии не кашлял. Всё обойдётся. Примем это, как неожиданную передышку.
Снятие карантина
От чумы погибло три человека: Зархин, Коган и парикмахер гостиницы «Националь», который брил Зархина перед заседанием коллегии и был с ним в слишком тесном контакте. Парикмахер заболел через двое суток после встречи с Зархиным, диагноз его не вызывал сомнений, и он был госпитализирован в Ново-Екатерининскую больницу, где и скончался через несколько суток.
Благодаря самоотверженности и профессионализму врачей и чётким действиям НКВД, случаев чумы больше не было. Через положенный срок Наркомздрав снял карантин. Под бравурные мелодии распахиваются двери гостиницы «Националь»; солдаты снимают оцепление вокруг Ново-Екатерининской больницы. Из дверей больницы, щурясь от ослепительного света, выходят доктора, медсёстры, санитарки, среди них — Лукомский и Коссель. Из ворот больницы на Соколиной горе выходят члены коллегии Наркомздрава. Мы видим наркома здравоохранения, Васильева и Журкина. Наркома и Васильева встречают жёны. Васильев не сразу узнаёт поседевшую Елену и тщетно пытается скрыть охвативший его ужас. Васильевы и нарком с женой садятся в присланные за ними машины. К Журкину подходят сзади два штатских, трогают его за плечо и предлагают пройти в стоящий неподалёку воронок.
Это только чума
«Чумную эпопею» я хочу завершить рассказом, услышанным доктором Гольдиным в Ново-Екатерининской больнице от коменданта больницы профессора Лукомского. Действующим лицом в этом рассказе был доктор Коссель, который контактировал с Зархиным на очень опасной стадии его болезни и с высокой вероятностью мог быть инфицирован. Поэтому Наркомздрав принял решение изолировать его не на Соколиную гору, а в Ново-Екатерининскую больницу, где уже полыхала чума.
В больнице Косселя встретил профессор Лукомский и рассказал несчастному, какая болезнь была у его пациента Зархина и почему он должен быть изолирован в карантин. Коссель пришел в неописуемое возбуждение и стал просить у Лукомского разрешения позвонить старушке-жене, которую оставил в полном отчаянии. Лукомский разрешил. Дрожащими руками Коссель взял телефонную трубку и ликующим голосом, не скрывая неожиданной радости, прокричал жене буквально следующее:
— Не волнуйся, дорогая. Это я. Я звоню из Ново-Екатерининской больницы. Подозревают, что я мог заразиться чумой от больного. Поэтому не волнуйся, оказывается, это не то страшное, о чем мы с тобой думали — это только чума!
1987
Яков Львович Рапопорт с учениками и сотрудниками. 1972-й год
Наталья Рапопорт — почетный профессор университета штата Юта в США, работает в области химиотерапии рака. Ее первая литературная работа, повесть «Память — это тоже медицина», была опубликована в журнале «Юность» в 1988 году с предисловием Евгения Евтушенко. В России увидели свет пять книг: «То ли быль, то ли небыль» («Пушкинский фонд», 1998, и «Феникс», 2004, дополненное издание), «Личное дело» («Пушкинский фонд», 2014; был номинирован на премию «Большая книга»), «Автограф» («Новый Хронограф», 2018) и «Ex Epistolis» («Новый Хронограф», 2019, совместно с Марком Копелевым). В 2020 году международным издательством World Scientific опубликована её книга на английском языке: «Stalin and Medicine. Untold Stories» («Сталин и медицина. Нерассказанные истории»). Печатается в журналах «Иностранная литература», «Знамя», «Дружба народов», американских и израильских журналах.
Вернуться назад