Новые книги
05 августа 2018
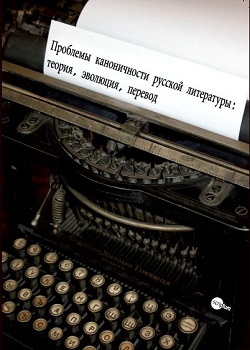
Проблемы каноничности русской литературы: теория, эволюция, перевод.
Сб. статей под ред. К. Ястшембской, М. Охняк и Э. Пилярчик.
Краков: Scriptum, 2017. — 173 c.
В последние годы немало интересных конференций по проблемам изучения русской литературы проводят польские университеты («Великие темы культуры в славянских литературах» во Вроцлавском университете; «Знаковые имена современной русской литературы» в Ягеллонском университете (Краков); международная конференция об экфрасисе в Седльце; «Д.С. Мережковский: литератор, религиозный философ, социальный экспериментатор» в Варшавском университете и др.). В октябре 2015 г. Институт восточнославянской филологии Ягеллонского университета провел Первую международную научную конференцию «Русская литература в переводах на иностранные языки» с подзаголовком: «Русский литературный канон: центры и периферии». Изданный по ее итогам сборник посвящен вопросу о каноничности литературных произведений, важному с исторической, теоретической и практической точек зрения. Как справедливо отмечают во вступительной статье составители, воплощением канона «являются школьные списки обязательного чтения, перечни книг, которые должен прочитать каждый интеллигентный человек, издания лучших произведений столетия/
народа/языка» (с. 7).
Иван Розанов, рассуждая о канонизации классиков, еще в 1928 г. писал, что «успех у современников, как бы он ни был велик, не дает еще права относить вновь появившуюся знаменитость к первоклассным писателям» (Розанов И.Н. Литературные репутации. М., 1990. С. 100). В современной науке, при всем различии воззрений на проблему литературного канона, «наиболее реалистичным представляется соответствие литературного памятника следующим критериям: 1) общественное признание и читательская популярность, 2) проверка временем, 3) широкое распространение в национальном масштабе (что во многом отражается включением в образовательную парадигму). Соответственно, канон во многом явление историко-литературное, социальное, существующее во времени и в интерпретации воспринимающих сознаний, которые в каждую историко-культурную эпоху по-разному „прочитывают“ произведение» (Мегрелишвили Т. Русский литературный канон в зеркале современности // Toronto Slavic Quarterly. 2013. № 44. С. 35).
По мысли организаторов конференции, проблема литературного канона имеет еще один знаменательный аспект, связанный с существованием и изучением канона переводной литературы. Интересно взглянуть на русский литературный канон извне и ответить на целый ряд теоретических и историко-литературных вопросов. Что такое канон русской переводной литературы? Какие произведения русской литературы включаются в состав «вечных спутников» человечества? Какова роль писателей, литературоведов, критиков, переводчиков в формировании русского литературного канона для зарубежных читателей? Кем и для кого формируется канон? Например, как отмечается в одной из статей сборника («Переводчик и время: два чешских переводчика и их роль в формировании чешского канона русской литературы» Я. Костинцовой), тема канона стала актуальной в 1990-е гг. в связи политическими и общественными переменами в странах Восточной и Центральной Европы, ставшими поводом для включения в литературный канон авторов и произведений — возвращения в литературу авторов-эмигрантов, массового издания произведений, распространявшихся до этого в самиздате, последовавшего за этим переписывания академической истории литературы и неизбежного изменения канона.
В сборнике приняли участие исследователи из России, Польши, Чехии, Эстонии, Германии, Италии и США. Термин «канон» они употребляют и в смысле Г. Блума (совокупность важнейших произведений какой-либо литературы, считающихся основополагающими в контексте всемирной или национальной традиции; «выборка из текстов, борющихся друг с другом за выживание», которую «можно относить на счет господствующих социальных групп, образовательных институций, литературоведческих традиций» (Блум Г. Западный канон: Книги и школа всех времен. М., 2017. С. 32)), и в традиционном смысле («количественно-структурная модель художественного произведения такого стиля, который, являясь определенным социально-историческим показателем, интерпретируется как принцип конструирования известного множества произведений» (Лосев А.Ф. О понятии художественного канона // Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. М., 1973. С. 15)). В центре внимания авторов сборника находятся вопросы, касающиеся дефиниции канона, (не)включения в него тех или иных произведений, обоснованности употребления самого термина «канон» в наши дни.
За редакторским вступлением следует статья Т. Щербовского(Педагогический университет в Кракове, Польша) «Литературный канон как временный исход игры интенций», которая задает теоретически-дискуссионный вектор всему сборнику. Т. Щербовский, опираясь на суждения Р. Кайуа о социологии игры, теорию интенции У. Эко, аналитическую психологию К. Юнга, теорию «конкретизации» литературного произведения Р. Ингардена и др., видит в каноне форму культурной игры, в которой реализуются как сознательные, так и подсознательные интенции. Так, понятие Блума «страх влияния», по мысли Щербовского, применимо к деятельности переводчика, который не первым переводит какое-либо литературное произведение.
Первая часть сборника посвящена пониманию и истории канона. В статье Н.А. Гуськова (СПбГУ) «Писатели XVIII столетия и русский литературный канон» поднимается вопрос о читательском восприятии основателей новой русской литературы в XIX–XX вв.: словесность XVIII в. «не просто все больше забывают по мере движения истории, но и не стремятся сохранить благодарную память о ней» (с. 21). Писатели XVIII в. существуют в основном лишь для специалистов по русской литературе, а не для рядовых читателей. В статье выясняются исторические причины подобного явления, главной из которых, согласно Н.А. Гуськову, стало несоответствие большего количества текстов XVIII в. либо романтической, либо реалистической эстетике, либо обеим. А то, что эта литература подробно изучалась в средних учебных заведениях вплоть до начала XX в., породило в образованной публике и критике «представление о чем-то школьном, примитивном, но скучном, утомительном, архаичном и абстрактном», необходимости «читать и заучивать против воли» (с. 27).
Е.А. Земова (Тюменский государственный университет) в статье «Русская футуристическая книга: от канона к апокрифу» оспаривает традиционное представление о футуристическом творчестве. Автор показывает, что оно не только отрицает чужой канон, но и формирует собственный, имеющий прочные связи с прошлым. Интересное наблюдение делает М. Кшондзер(литературное общество «Арион», Германия) в статье «Канон и антиканон в поэтическом мире Осипа Мандельштама»: в творчестве поэта уживаются две взаимоисключающие тенденции: «следование мировым культурным традициям и в то же время отталкивание от них» (с. 59). А.Л. Корриторе (Университет Перуджи, Италия) в статье «Динамика канонизации советского приключенческого романа: „Месс-Менд, или Янки в Петрограде“ Дж. Доллара» исследует роман М. Шагинян как образец советской «пинкертоновщины», как каноническое произведение для своего жанра и одну из базовых книг русского литературного канона 1920-х гг. Эта статья погружает нас в дореволюционный и раннесоветский контекст «американизма», т.е. приключенческого нарратива (литературного и кинематографического), привлекавшего молодую русскую публику. Чтобы проследить, как культурная традиция породила самостоятельный жанр со своим каноном, автор обращается к «полисистемной теории» израильского ученого И. Эвен-Зохара (см.: Poetics Today. 1990. Vol. 11. № 1). Другие статьи первого раздела посвящены формированию канона русской критики в эпоху Серебряного века и формам советской житийной канонизации в соцреалистическом каноне.
Во втором разделе рассматриваются вопросы образования и функционирования канона русской литературы за рубежом: в Эстонии, Чехии, Польше и англоязычных странах. Статья И.З. Белобровцевой(Таллиннский университет, Эстония) посвящена трудностям перевода. Автор рассуждает о так называемом «концептуальном» переводе, основанном на «аутентичном понимании именно интенции, концепции того ли иного авторского решения» (с. 104). На примере перевода «Стихотворений Юрия Живаго» эстонской поэтессой Марие Ундер поставлена проблема выбора переводческих приоритетов, наиболее адекватных приемов передачи элементов стихотворной формы и образной символики поэзии Пастернака и, главное, критериев оценки перевода. Я. Костинцова (Университет Градец-Кралове, Чехия) в уже упомянутой статье, сравнивая переводческую практику Я. Забраны и Л. Дворжака, анализирует, какие факторы играют роль при формировании канона переводной литературы, насколько детерминирующим является общественный контекст и какую роль в формировании канона может играть творческая личность (переводчик). Фигуры двух видных чешских переводчиков представлены как типы, противоположные по ряду критериев (культурно-историческая принадлежность, социально-профессиональная среда, идеология, эстетика, склад темперамента). Я. Котинцева приходит к выводу, что они сформировали противостоящие друг другу модели восприятия русской культуры, основанные на разном текстовом репертуаре.
Из других вошедших в сборник материалов отметим сопоставительный обзор английских переводов «Героя нашего времени» (и их иллюстративное оформление), данный в статье Ю. Писарской(Силезский университет в Катовицах, Польша) «„Герой нашего времени“ Михаила Лермонтова в английском переводе Владимира Набокова и его продолжателей», статью «О функционировании „словесных фотографий“ Иосифа Бродского в переводах» Й. Мадльох (Государственный университет Монтклер, США) и статью «Канонический потенциал творчества Владимира Сорокина на фоне тенденций в современной мировой литературе» А. Стрыяковской (Университет им. А. Мицкевича в Познани, Польша). Рассмотренные в сборнике вопросы, разумеется, требуют, дальнейшего изучения — углубления теоретической рефлексии, расширения историко-литературной сравнительной базы. Надеемся, что краковские конференция и сборник станут отправной точкой для перспективных совместных исследований механизмов формирования русского литературного канона в России и за рубежом.
В.Н. Крылов

Мгновение как сюжет: Статьи и материалы
Ред.-сост. С.А. Васильева, А.Ю. Сорочан.
Тверь: Изд-во М. Батасовой, 2017. — 360 с. — 200 экз. — (Время как сюжет. Вып. 5).
Содержание: Сорочан А.Ю. Мгновение в системе концептуальных и дискретных моделей темпоральности; Дискретное время: Кошелев В.А. «Остановленное мгновение» и «Жирный карандаш»; Денисенко С.В.«Незапный мрак иль что-нибудь такое...» Роковой миг в сюжетике Пушкина; Васильев Н.Л. Концепт мгновение (миг) в поэзии Е.А. Баратынского; Бурнашёва Н.И. «Секунда, показавшаяся часом» (Мгновение в сюжетной структуре произведений Л.Н. Толстого); Васильева С.А. «Мгновение моды» в прозе И.А. Гончарова; Потемкин С.Б. Развязка анекдота как момент истины; Доманский Ю.В. «На мгновенье вспыхнул свет»: Контекстуальное смыслообразование в вариантах песни Егора Летова «И снова темно» 1987 и 1989 годов; Воронин В.С., Воронина Ю.В. Неопределенность Гейзенберга и переходное мгновение в художественной литературе (Л. Толстой, А. Бирс, Х. Борхес); Сазеева И.Б. Нелинейность времени у Амброза Бирса и Жиля Делёза; Мгновение в системе временных категорий: Никишов Ю.М. Быстрые и растянутые мгновения в поэзии Пушкина; Карандашова О.С. Мгновение в поэтическом мироощущении И.С. Тургенева; Сузи В.Н. Мифопоэтический принцип остановленного мгновения в рассказе И. Бунина «Чистый понедельник»: Эсхатологический ракурс; Багратион-Мухранели И.Л. Развертывание сюжета стихотворения М.И. Цветаевой «Генералам двенадцатого года»; Никольский Е.В. Роман Орхана Памука «Музей невинности»: Миг и не только (Мгновение как пусковой механизм сюжета и проблемы европеизации); Лобин А.М. Сюжетная функция мгновения в цикле рассказов В. Сорокина «Сахарный Кремль»; Шафранская Э.Ф. Мгновение в классической и неклассической модели повествования; Мгновение и смежные категории: Атаянц Г.Р. Мгновение контакта в путевых очерках Д.Л. Мордовцева; Рублёва Н.И. Мгновение длиною в вечность; Денисова Е.А. Создание иллюзии «мгновения» в стихотворении Александра Блока «Обман»; Шадурский В.В. Случай и мгновение в прозе Марка Алданова; Люсый А.П. Мгновеннософия Максимилиана Волошина и Марка Алданова; Бойкова Ю.А. Репрезентация понятия мгновениев лирике А.Д. Дементьева; Шаповалова Т.А., Кокаревич М.Н. Мгновение как эстетическая репрезентация идеала; Шелемова А.О. «Чудные мгновения» Максима Богдановича; Колымагин Б.Ф. Миг тишины (В контексте поэзии андеграунда); Мгновение и вечность: Шахматова Е.В. Культ мгновения в русском символизме и доктрина мгновенности в буддизме; Лукин Д.С. Мгновенное и вечное в концепции жизни Леонида Андреева (На материале ранней прозы писателя); Санаева В.В.Мгновение в поэзии К.М. Фофанова; Пинаев С.М. Мгновение как знак вечности в поэзии и философии Максимилиана Волошина; Беренштейн Е.П. Иннокентий Анненский: длительность мгновения; Шкурат Л.С. Мгновение и вечность в миниатюрах Ю.В. Бондарева; Кузнецова А.И.Мгновение как сюжет в романе Уильяма Голдинга «Хапуга Мартин»; Запечатленное «вдруг»: Шурупова О.С. «Приближение неотвратимого вдруг» (Особенности времени действия в «Петербургском тексте»); Гайдук В.Л. Опыты фиксации театрального мгновения в 1920–1930-е гг.; Волошин П.А. Вечность и мгновение в песнях о фотографии; Загребельная Н.К. Мгновение фотографии и лирический момент; Еланская С.Н. «На краткий миг блаженство нам дано»: Счастливые мгновения в советском кино; Мотеюнайте И.В. Мгновения штандартенфюрера СС фон Штирлица и секунды лауреатов Государственной премии СССР Р. Рождественского и М. Таривердиева.
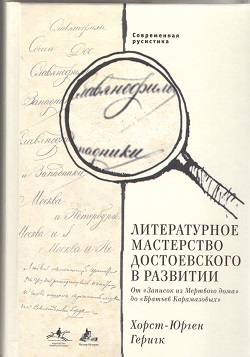
Геригк Х.-Ю. Литературное мастерство Достоевского в его развитии. От «Записок из Мертвого дома» до «Братьев Карамазовых»
Авториз. пер. с нем. и науч. ред. К.Ю. Лаппо-Данилевского.
СПб.: Изд-во Пушкинского Дома; Нестор-История, 2016. — 320 с. — 500 экз. — (Современная западная русистика. Т. 4).
Как сказано в аннотации, «цель этой книги — оказать поддержку естественному, не основанному на литературоведческих знаниях, пониманию читателя и облегчить ему подход к главным текстам Достоевского, а также прояснить актуальность Достоевского...» (с. 2). Может показаться, что перед нами научно-популярная работа, адресованная самой широкой аудитории. Но почти сразу же появляются сомнения: в предисловии к русскому изданию (немецкое появилось в 2013 г.) речь идет о немецкой культурной истории и о рецепции творчества, далее автор ссылается на Л. Гроссмана и М. Хайдеггера, обсуждая отношения между текстом и читателем в произведениях Достоевского: «Он постоянно наблюдает за своим читателем, играет с его сокровеннейшими домыслами и прекрасно знает, что читателю нравится быть сообразительным. <...> Достоевский не выкладывает истину на блюдо, но ведет себя, подобно Сократу в диалогах Платона: собеседника (у Достоевского это читатель) приводят окольными путями к тому, чтобы он сам обнаружил правду» (с. 6–7). А завершается предисловие обещанием увести читателя в «мир интерпретаций». Как видим, проект книги оказывается не менее масштабным, чем «Житие великого грешника».
Не слишком помогает и содержание: первая глава посвящена «Запискам из Мертвого дома», вторая («Духовная атмосфера времени») — «Запискам из подполья», третья — «пятикнижию» (все разделы в ней строятся по схеме: «вступление» — «интерпретация» — «своеобразие»); но уже в четвертой главе речь идет об «Игроке», а пятая, итоговая, озаглавлена «Связь между биографией и творчеством Достоевского» и начинается... с «Бедных людей».
Композиция книги достаточно оригинальна — теоретические установки автора раскрываются на с. 64, причем в сноске. Здесь автор ссылается на свою предшествующую работу (Gerigk H.-J. Lesen und Interpretieren. Göttingen, 2006), и без этой ссылки замысел книги о Достоевском понять сложно. Для понимания внутренней логичности художественного произведения автор предлагает разграничить психологические и поэтологические обоснования: «Психологическое обоснование дает ответ, как данная сцена проявляется в интрафикциональной последовательности событий. Поэтологическое обоснование, напротив, дает ответ, какие цели ставил автор, создавая эту сцену. <...> Психологическое обоснование заметно уже во время первого чтения, поэтологическое же обоснование — лишь после того, как весь текст уже прочитан» (с. 64). С психологической точки зрения Гамлет убивает Полония, приняв его за Клавдия; с поэтологической — чтобы отомстить за отца, Гамлет должен стать таким же жестоким, как Клавдий, и убить чьего-то отца, сын которого (Лаэрт) позднее совершит акт мести. С интрафикциональной точки зрения сон Раскольникова о забиваемой до смерти лошади — воплощение размышлений о преступлении; с точки зрения поэтологической «Раскольников и жертва, и преступник, и свидетель-ребенок, т.е. свидетель, воплощающий нравственные начала» (с. 81). Именно поэтому сон, представляющий «осмысление настоящей ситуации», в отличие от других снов рассказан в настоящем времени.
Подобные наблюдения для автора важны, но самоцелью не являются. Для Х.-Ю. Геригка гораздо ценнее возможность определить своеобразие отношений Достоевского и его читателей, отыскав новые ключи к каноническим текстам.
Остановлюсь на двух примерах.
Для характеристики своеобразия романа «Идиот» автор монографии использует понятие «кэмп», введенное Сьюзен Зонтаг: «Кэмп вводит новый стандарт: искусственность как идеал, театральное как предпосылку» (с. 129). И утрированно-готический сюжет «Идиота» (в изложении Х.-Ю. Геригка) — чистейший кэмп. «Любовная история гипертрофирована, экстравагантна и фантастична»; убийство оказывается «пассивным самоубийством», а настоящий идиот — это «доктор Шнейдер, руководитель швейцарского санатория, ибо в завершение лечения он выдает совершенно ложное врачебное заключение, столь ошибочное, что в это невозможно поверить» (с. 133–134). Может показаться, что Геригк солидарен с оценкой Набокова, который назвал «Идиота» «безумной мешаниной»; однако ссылка на традицию готических романов с сентиментальными чертами не должна вводить в заблуждение: «Пренебрежение Набокова чисто эстетическое, он далек от оценки содержания» (с. 131). Автор рецензируемой монографии, оценивая содержание, сближает роман Достоевского с «Саломеей» О. Уайльда. И формула построения кэмпа проста: «неверная оценка», «развенчание серьезности», «подвижное внутреннее зрение», «демонстрация навязанных ролей». Подробный анализ первой части романа позволяет читателю приблизиться к такому поэтологическому прочтению.
Но апогеем кэмпа в данной работе, на мой взгляд, становится интерпретация «Братьев Карамазовых»; для верного понимания романа «следует рассматривать реалистический уровень с постоянной оглядкой на аллегорический. Достоевский переносит аллегорию внутреннего суда в человеке непосредственно в действительность» (с. 214). «Пуант реалистического уровня заключен в том, чтобы явить нам невинно осужденного, принимающего наказание, вынесенное ему совершенно несправедливо и произвольно, как свой жребий. То же, что на реалистическом уровне — всего лишь ошибка правосудия, на аллегорическом уровне становится справедливым осуждением компоненты „Дмитрий“ <...> все доказательства виновности Дмитрия — это итог его подлинного умонастроения» (с. 213). Естественно, интеграция аллегорического способа прочтения в реалистический осуществляется на самых разных уровнях, и здесь вполне логично и обращение к идеям Канта, и к тексту предшествующих романов, в первую очередь «Подростка», и к «теории улик», намеченной в «Преступлении и наказании» («...это роман одного преступления, после совершения которого изображенный мир с возрастающей скоростью преображается в пекло улик», с. 233). Рассматривается и точка зрения «наивного хрониста», и позиция «наивного читателя». Но автор прихотливо выстроенной монографии далеко не наивен — он достигает поистине кэмповой серьезности. Сначала, в разделе «Сердце тьмы», речь идет об «интеллектуальном центре романа», «находящемся в четвертой главе восьмой книги» (с. 230). Это — пустая строка, перерыв в повествовании в кульминационный момент: «...читатель должен сам найти правду и за счет этого также действительно увидеть ее, а не только услышать рассказанною» (с. 233). Но потом Геригк подробно разбирает показания слуги Григория: «Безжизненный предмет, обычная дверь, ведущая в сад, на протяжении сотен страниц сохраняет свое значение опоры, на которой, как на едином стержне, покоится все здание „судебной ошибки“» (с. 253). Однозначного психологического объяснения ошибки Григория в романе нет — зато есть объяснение архитектоническое и более чем достаточное: «...для обвиняемого эта дверь — заклятье и бога, и черта» (с. 253).
Однако не успели мы подумать, что архитектоникой своеобразие романа исчерпывается, как на последних страницах монографии нам предлагают совершенно серьезную (и вновь потрясающе кэмповую) версию прочтения романа. Виновность Дмитрия абсолютна и несомненна — и писатель на этом настаивает: «Мы имеем дело с областью табуизированного, с теорией заминированных травм» (с. 309). Именно это и происходит в «Братьях Карамазовых» — Достоевский возвращается к началу, к тому, что предшествовало «Запискам из Мертвого дома». Арест, допросы, ошибочный приговор, который сам осужденный признает справедливым, — все это уже было, это пережито и обрело поэтологическое объяснение: «„Братья Карамазовы“ — литературно зашифрованное донесение на самого себя, оправдывающее задержание и депортацию участников кружка Петрашевского в 1849 году» (с. 309). Вот, собственно, и все... Своеобразие Достоевского рассмотрено, а читатель монографии остается в положении «наивного читателя» Уайльда — или Достоевского. Потому что последняя фраза этой занимательной книги такова: «Правда, для того, чтобы должным образом понять „Братьев Карамазовых“, оглядка на биографию их автора необязательна» (с. 310).
Александр Сорочан
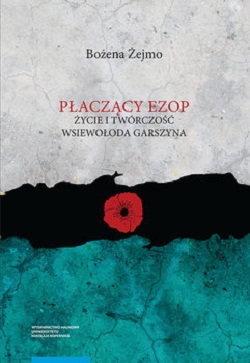
Żejmo B. Płaczący Ezop. Życie i twórczość Wsiewoloda Garszyna.
Toruń: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2017. — 438 s.
Монография Божены Жеймо посвящена жизни и творчеству «русского Гамлета», писателя яркого таланта и трагической судьбы — Всеволода Гаршина. Факт этой публикации, безусловно, радует, поскольку, несмотря на множество защищенных диссертаций и опубликованных статей по самым разнообразным темам, связанным с личностью и наследием Гаршина, авторской монографии, где бы синтезировалось наиболее значимое из научного освоения русского классика за последнюю четверть века, в современной славистике не было. На польском языке это первая монография о Гаршине. Она включает следующие главы: «Творческая биография», «Военная одиссея на Балканы», «„Красный цветок“ — два диагноза», «Передвижник в литературе», «Сказки», «В сторону Толстого», «Неизвестный Гаршин», «Гаршинский герой в произведениях Чехова».
Литературно-критическое изучение творчества русского писателя началось при его жизни и успешно продолжается до настоящего времени. При этом, хотя наследие Гаршина невелико по объему и, казалось бы, уже основательно изучено, практически каждый современный исследователь (см., например, работы В. Порудоминского, И. Васильевой, О. Голованя, О. Лепеховой, К. Папазовой, С. Васиной, Д. Кобозева и др.) неизменно указывает, с одной стороны, на неослабевающий интерес к личности и наследию Гаршина, с другой — на имеющиеся лакуны, которые нуждаются в заполнении. Польская исследовательница не нарушает сложившейся традиции. Она вслед за предшественниками констатирует наличие массы работ о писателе разного научного достоинства и выделяет совокупность вопросов, нуждающихся в дополнительном осмыслении. Проблема рецепции творчества Гаршина в Польше рассмотрена ею в специальной статье (Восприятие творчества Всеволода Михайловича Гаршина в Польше // Мова і культура. 2013. Вип. 16. Т. 4), где внимание обращено на весьма «скромное» положение русского классика в современном польском литературоведении, где ему посвящено немногим более десятка статей. Во вступительной части монографии представлен расширенный и дополненный (в сравнении со статьей 2013 г.) обзор польского гаршиноведения, но общая его оценка остается неизменной. Здесь же названы значимые для исследуемой тематики труды ряда российских литературоведов, определены задачи и методологические принципы предпринятого исследования. Свою основную цель автор видит в комплексном анализе личности и творческого наследия Всеволода Гаршина. По ее мнению, русский писатель, «был не только совестью своего времени; поставленные им „проклятые вопросы“ о добре и зле, жизни и смерти, любви и ненависти, строптивости и покорности, эгоизме и эмпатии, взлетах и упадке человеческого духа придали его деятельности измерение универсальное и неизменно актуальное» (с. 27)
Первая глава, посвященная творческой биографии Гаршина, — несомненная удача автора. Здесь ощутима свободная ориентация исследовательницы в основных биографических работах о писателе (Г. Бялого, В. Порудоминского, А. Латыниной). Однако первостепенное внимание уделено так называемым «личным документам», прежде всего автобиографии и эпистолярию писателя, а также воспоминаниям его современников. Умелая компоновка этих источников, точные комментарии, деликатная интерпретация позволили Б. Жеймо показать духовный мир героя, представить его окружение, воссоздать напряженную атмосферу эпохи. Б. Жеймо детально рассматривает отношения между автором и его творчеством. В результате на страницах монографии возникает самобытная личность писателя — человека определенного социального положения, религиозных, философских, политических, этических и эстетических воззрений, обладающего высокими достоинствами и простыми человеческими слабостями. Внимание уделено тяжелой наследственной болезни Гаршина, симптомам постепенно проявляющегося психического расстройства, которое со временем привело к трагическому исходу. Совокупный учет разнообразных фактов и факторов позволил автору обрисовать сложный образ Всеволода Гаршина и своеобразие его художественного мира.
С интересом читается третья глава, где рассматривается одно из самых известных произведений Гаршина — «Красный цветок» — в двух аспектах: патографическом (когда состояние героя и его автора описывается с помощью медицинских терминов как история болезни) и эстетическом. Жеймо опирается на опыт прочтения «Красного цветка» известным русским психиатром Иваном Сикорским (см.: Вестник клинической и судебной психиатрии и невропатологии. СПб., 1884. Вып. I), увидевшим в рассказе Гаршина «картину болезненного самочувствия, освещенную тонким проницательным анализом художественного таланта», а также на наблюдения современных исследователей — И. Сироткиной (Классики и психиатры: психиатрия в российской культуре конца XIX — начала ХХ веков. М., 2008) и Б. Бронжкевича (Brążkiewicz B. Choroba psychiczna w literaturze i kulturze rosyjskiej. Kraków, 2011), активно изучающих патографические аспекты художественного творчества. Далее плодотворно и последовательно развиваются наблюдения Г. Вебера (Weber H. Mitra and Saint George. Sources of the «Red Flower» // Vsevolod Garshin at the Turn of the Centure. Оxford, 2000. Т. 2), определяемые ритуально-мифологическим подходом в изучении текста, позволяющим выявить скрытые аналогии, связывающие литературные образы, сюжеты, жанры, тропы с ритуалами, обрядами, архетипами. При этом автор обращает внимание на полигенетичность рассказа «Красный цветок» и тщательно исследует его источники и параллели. К сожалению, не учтены некоторые значимые работы, непосредственно соотносящиеся с затронутыми исследовательницей темами (см., например: Бирштейн И. Сон В.М. Гаршина. Психоневрологический этюд к вопросу о самоубийстве. М., 1913; Гиндин В.П. Психопатология в русской литературе. М., 2005; Шорина Э.В. Интертекстуальный дискурс темы безумия в рассказе В.М. Гаршина «Красный цветок» // Филологический аспект. 2015. № 3), которые могли бы послужить источником дополнительных плодотворных сображений.
Глава «Неизвестный Гаршин» позиционируется автором как ключевая для полного понимания творческого наследия писателя. Материалы, сосредоточенные в этой главе, призваны дополнить общую картину творческой деятельности русского классика, придав ей соответствующую полноту. Такую исследовательскую позицию можно только приветствовать. Б. Жеймо видит свою особую заслугу перед польским читателем в том, что она «обогатила и дополнила» образ русского классика «архивными материалами», в состав которых входят «стихотворения в прозе, лирика, драмы, фельетоны, фрагменты исторического романа о Петре Первом, неоконченные сказки и рассказы, записные книжки, письма». Эти когда-то, действительно, неизвестные тексты привлекаются автором для описания многообразных творческих интенций писателя. Но при этом создается ложное впечатление, что именно она, Б. Жеймо, впервые обратилась к этим архивным источникам и использовала их в своей работе. В реальности это не так. Все материалы, в том числе и архивные, которые названы в монографии, уже были в разное время введены в научный оборот исследователями. В данной главе все «архивные материалы» представлены через «чужое» посредство: постоянно цитируются труды Л. Клочковой, П. Бекедина, В. Порудоминского, М. Костовой (Гургуловой), Ю. Оксмана, но нет ни одной ссылки непосредственно на архивы. Кроме того, существуют другие работы, посвященные анализу незавершенных текстов и неосуществленных замыслов Гаршина (Белькинда, Московкиной, Колесниковой, др.), не упомянутые автором. Неточности в представлении материалов порождают ненужную двусмысленность при ознакомлении с этой главой, которая в основе своей является достаточно емкой и содержательной.
Обращает на себя внимание, что автор не столько открывает какие-либо неизвестные факты и явления, не столько ставит и решает какие-то новые проблемы или намечает новейшие интерпретационные пути, сколько, опираясь на многообразную имеющуюся литературу, подводит итоги и актуализирует, действительно, наиболее интересные, значимые и перспективные позиции в настоящий момент, вносит дополнительные уточнения и коррективы, пытаясь представить на страницах своей книги Всеволода Гаршина комплексно — как творческую личность в разнообразии ее жизненных особенностей и художественных устремлений.
Резюмируя, отметим, что вышла полноценная монография о Гаршине, автор которой попытался синтезировать научно-критический материал, существующий на трех языках (русском, польском, английском), и использовать разнообразные методологические подходы (биографический, конкретно-исторический, сравнительно-исторический, типологический, психологический, интертекстуальный) в освещении личности и творчества русского писателя.
Л. Луцевич

Михайлова М.В. Марксисты без будущего: Марксизм и литературная критика (1890–1910-е гг.).
М.: Common Place, 2017. — 662 с. — 500 экз.
Терри Иглтон писал, что история критики не может существовать вне определенных идеологических формаций (см.: Eagleton T. Criticism and Ideology: A Study in Marxist Literary Theory. L., 1976. P. 20). В случае с марксистской критикой это наиболее очевидно, и при ее чтении часто возникает соблазн видеть в ней исключительно политическую апроприацию художественного. В России ситуация осложняется тем, что «идеология победившего марксизма решительно не совпадала с методом борющегося марксизма, но это тщательно скрывалось» (Гаспаров М.Л. Лотман и марксизм // Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. М., 1996. С. 416). На протяжении десятилетий советским литературоведам приходилось заниматься ритуализированным цитированием классиков марксизма-ленинизма. Не удивительно, что на постсоветском пространстве марксистский метод в критике и литературоведении был скомпрометирован на долгие годы, в то время как в западной науке он оказался вполне продуктивным — стоит указать хотя бы на работы Дж. Гиллори, Т. Иглтона, Р. Уильямса, С. Холла.
В российской филологии многое нуждается в ревизии, и в том числе — марксистское наследие. Как остроумно заметил тот же Иглтон, «нелепо полагать, будто прозрения Брехта, Лукача, Адорно и Рэймонда Уильямса потеряли ценность оттого, что Китай повернул к капитализму или пала Берлинская стена» (Иглтон Т. Марксизм и литературная критика. М., 2009. С. 4). Книга М.В. Михайловой — это как раз такое историческое исследование, в котором пересматривается наследие известных критиков и анализируется наследие критиков малоизвестных и забытых (автор уточняет, что при выборе критиков исходит из принципа их самоидентификации как марксистов). Одна из главных задач Михайловой — раскрыть «однородность» марксистской критики, обусловленную не только исходной методологической позицией, но и политическими убеждениями, и в то же время продемонстрировать подвижность границ внутри марксистского лагеря. В центре внимания исследователя — «яркие индивидуальности»: Г. Плеханов, Л. Троцкий, Л. Каменев, М. Морозов, В. Шулятиков, Н. Чужак, П. Коган, И. Аксельрод, В. Фриче.
Критерием выделения течений в марксистской критике служит отношение к литературно-критической концепции Плеханова, предполагавшей выявление социологического и эстетического эквивалентов литературного явления на основе принципа научной объективности. Михайлова пишет, что эти два аспекта «так и не слились в его практике воедино», а «у его учеников и соратников оказались разорванными окончательно или соединенными весьма причудливо» (с. 23). Автор выделяет три типа марксистской критики. Первый был представлен теми, кого интересовало преимущественно идейное содержание художественного текста. Второй — авторами, которые видели свою задачу в воспитании автора и читателя и ставили, таким образом, во главу угла фигуру говорящего. Представители третьей группы изучали не только идейную, но и художественную составляющую литературных произведений; эта группа «пропагандировала романтические устремления, приветствовала „преображающий“ характер искусства, <...> очень внимательно относилась к поискам в русле модернизма» (с. 25). Отдельно рассматриваются критики, которые «традиционно считались ее [марксистской критики] „блудными детьми“», — так называемые вульгаризаторы марксизма: Шулятиков, Коган и Фриче.
Михайлова ведет работу в нескольких направлениях: прослеживает идеологическую динамику становления и последующих изменений марксистской критики; анализирует основные темы и сюжеты, волновавшие критиков этого лагеря; описывает дискуссии внутри разных направлений и встраивает их в общий критико-философский контекст 1890–1910-х гг. На первом этапе развития русской марксистской критики во главу угла были поставлены «безоценочность» и утверждение «научного объективизма». Критика стремилась «не заклеймить, а трезво разобраться в многообразии влияющих на художника социальных и психологических факторов» (с. 93). На втором этапе влияние марксистской критики распространяется на другие области культуры. Одновременно с этим на первый план выходят политические задачи (автор использует термин «партийность»), в связи с чем «подвижность и вариативность марксистского методологического подхода к литературе сменились однозначно фиксированным набором требований» (с. 102), а сама критика все чаще рассматривалась как инструмент внедрения социал-демократических идей. Михайлова цитирует знаменитую статью Ленина «Партийная организация и партийная литература» (1905): «общепролетарское дело» обзаводится еще одним «винтиком», с помощью которого приводится в движение весь «великий социал-демократический механизм». Стремление к объективности уступает место догматизму и желанию объяснить и «выпрямить» любое явление. Автор упоминает о курьезной попытке марксистской критики решить «проблему небытия»: «Страх смерти присущ только индивидуалистам, поддержка коллектива спасет от этого чувства. K такому заключению склоняются почти все марксисты» (с. 109).
Третий, «синтетический» этап связан с именами А. Луначарского и Н. Чужака. Михайлова уделяет больше внимания последнему, объясняя это недостаточной изученностью его дореволюционного наследия. Чужак моделировал «образ идеального критика и идеальной синтетической критики», отказывался от характерного для марксистской критики деления на «своих» и «чужих», а также изучал так называемое «творческое начало». Идеалом любого художника, согласно Чужаку, является ультрареализм, который отличает обращение к «обычному, нестрашному, обывательскому». В этот же период происходит постепенное «перерождение» марксистской методологии в сугубо идеологическую структуру.
Анализируя темы и сюжеты, волновавшие марксистскую критику, Михайлова опровергает устоявшийся тезис о нигилистичности марксистской критики: «Скорее для всей социал-демократии была характерна традиция внимательного отношения к культуре прошлого» (с. 307). В главе о рецепции предшествующей критической традиции и классического наследия рассматривается отношение марксистов к Белинскому, Добролюбову, Герцену, Писареву. Оно оказывается не таким очевидным, как может показаться сегодня: «Ближе всех из революционеров-демократов марксистам был все же Н.А. Добролюбов. Именно Добролюбов воспринимался критиками-марксистами как истинный социалист, без крайностей Писарева, после которого на долю марксистов выпала, как они считали, задача „восстановления“ „разрушенной“ эстетики <...>, и без сложностей Белинского, гегельянство которого давало повод для серьезных разбирательств» (с. 311). Анализ восприятия Добролюбова до 1917 г. (рассматриваются статьи Засулич, Шулятикова, Волынского, Филиппова, Соловьева-Андреевича, Плеханова и др.) настолько детален, что может служить дополнением к главе «Советский Добролюбов» в книге А. Вдовина «Добролюбов: разночинец между духом и плотью» (М., 2017): Вдовин хотя и касается некоторых раннемарксистских критиков, но сосредоточивается на пореволюционном образе Добролюбова.
Во второй части главы столь же подробно анализируется отношение к классикам русской литературы: Гоголю, Толстому, Некрасову — писателям, которые позднее войдут в советский литературный канон. На материале десятков статей Михайлова показывает, насколько был велик разброс мнений о каждом писателе. Эта глава особенно важна, поскольку марксистской методологии (и тому, во что она выродилась позже) чаще всего ставили в вину «присвоение» классического наследия, его адаптацию к идеологическим нуждам. В постсоветские годы вышло немало работ, посвященных канонизации писателей XIX в. в советской России; только о столетии со дня смерти Пушкина относительно недавно вышло две книги (Молок Ю. Пушкин в 1937 году. М., 2000; Платт Дж.Б. Здравствуй, Пушкин! Сталинская культурная политика и русский национальный поэт. СПб., 2017). Как правило, в подобных работах рассматривается период после 1917 г., Михайлова же исследует почву, на которой были возведены все эти монументы.
В главе «Панорама литературных направлений и школ в зеркале марксистской критики» Михайлова вслед за европейскими исследователями отмечает, что лучше всего марксистская критика справлялась с анализом макроструктур, например литературных направлений: «Марксистская критика ничего определенного не могла сказать о специфике символизма А. Блока, но признаки декадентской и модернистской литературы, если отвлечься от оценочной характеристики данных явлений, очертила вполне узнаваемо» (с. 468). В конце главы автор пишет, что «марксистская критика выстроила свою довольно оригинальную и в чем-то даже неожиданную систематику литературных направлений начала ХХ в. <...> Продемонстрировав верность реализму, она тем не менее сумела выделить в модернизме в целом <...> ценные элементы, которые, как она считала, могли стать составными частями нарождающегося искусства» (с. 536).
Михайлова не только стремится с максимальной полнотой показать весь спектр идей в марксистской критике 1890–1910 гг., но и подчеркивает, что некоторые идеи философов-марксистов позднего поколения обнаруживаются уже в работах их забытых предшественников. Поэтому она спорит в Заключении с Г. Карпи, который подчеркивал особую роль Д. Лукача, М.А. Лифшица и Е.Ф. Усиевич в развитии философско-критической марксистской традиции (см.: Карпи Г. История русского марксизма. М., 2016). Они, с точки зрения Михайловой, «не смогли пойти дальше утверждения, что не следует напрямую увязывать идеологию автора и его способ видения действительности, в частности реалистическое изображение жизни, что вылилось в теорию „вопрекизма“. Но ведь эта мысль уже звучала в дебатах начала века (у Плеханова, например). И вряд ли стоит так хвалить Е. Усиевич за проводимое ею противопоставление „мышления образами“ „пассивно-иллюстративному подходу“ <...>. Приблизительно это самое и имел в виду Луначарский, когда писал о специфике художественного творчества» (с. 558). Это спорный тезис, тем более что Лукач и Лифшиц, в отличие от упомянутых предшественников, были философами, а не политиками и, следовательно, воспринимали «развитие марксистской мысли» с несколько иных позиций. С другой стороны, за этим утверждением кроется призыв пересмотреть отношение к ранней марксистской критике, программа которой не была вполне реализована, — поэтому Михайлова и называет своих героев «марксистами без будущего».
Мария Нестеренко
Автухович Т. «Шаг в сторону от собственного тела...» Экфрасисы Иосифа Бродского.
Siedlce: Inst. kultury regionalnej i bada? lit. im. F. Karpińskiego, 2016. — 268 с. — (Opuscula Slavica Sedlcensia. T. 10).
Визуальное играло в поэзии Бродского очень большую роль. Т. Автухович ссылается на исследование И.Ю. Самойловой, согласно которому у Бродского количество употреблений глаголов пары «видеть — смотреть» выше, чем у других поэтов, за исключением пары «говорить — сказать» (с. 19). Классицистичный в поэзии, Бродский в живописи любил и авангард вплоть до Джексона Поллока. Визуальность у Бродского исследуется в контексте вопросов субъективности и свободы, проблематизации мира. «„Онтологическая неуютность“ (формула И.Е. Даниловой) живописцев кватроченто была близка Бродскому, который в своем творчестве осмыслил психологическое состояние человека ХХ века, оказавшегося в ситуации антропологического кризиса, исчезновения человека» (с. 26). Живопись для Бродского важна как один из способов встречи с пространством (которое, наряду с временем, — в числе его основных тем). Один из способов отстранения от себя — действительно «шаг в сторону от собственного тела». Но с другой стороны, поэт мог и разговор со значимым для него человеком (в данном случае с Мариной Басмановой, которая была художницей) вести при помощи произведений искусства.
Книга содержит наблюдения гораздо более широкие, чем по стихам Бродского. По мнению Т. Автухович, вообще произошло радикальное изменение экфрасиса. Соперничество словесного и изобразительного искусств или словесное комментирование живописи перестало быть актуальным еще в XIX в. (с. 45), современный экфрасис — не описание картины. Это стихотворение не о живописи, а с помощью живописи, «авторефлексия через поэтический экфрасис» (с. 30). Современный экфрасис можно рассматривать, «во-первых, как процесс экспликации „внутреннего“ из „внешнего внутреннего“, явленного в картине, во-вторых, и это главное для нас, процесс импликации в эти знаки своего „внутреннего внешнего“» (с. 49). Происходит не интерпретация произведения искусства, а осмысление «собственной судьбы или проблемной ситуации метафизического свойства через призму культуры» (с. 52). Проблема настолько сложна, что «предполагает посредничество культурного опыта в ценностном самоопределении» (с. 53). Помощь поэту оказывает значительная вариативность, текучесть живописного образа. На основе выбранного произведения искусства «возникает новый нарратив, в котором те же детали, в силу способности эмблематических образов выражать самое разное содержание, отражают иную, в данном случае поэта, экзистенциальную ситуацию» (с. 50).
Даже если удается определенно установить, какое произведение искусства связано со стихотворением Бродского, заметны значительные расхождения в описании его поэтом. Видимо, картина Л. Кранаха действительно послужила Бродскому поводом для размышлений о сложных взаимоотношениях с Мариной Басмановой — и, подчеркивая мотив хитрости героини, он снабжает ее «накидкой лисьей» вместо золотых волос на картине. Бродский меняет даже название произведения («Венера с яблоками» вместо «Мадонна с младенцем под яблоней»). Поскольку Венера становится героиней картины вместо Мадонны, яблоко может оказаться символом не только искупления и гармонии, но и земных желаний, и поводом для раздора. И в ладони младенца-Христа у Бродского оказывается тоже яблоко, а не хлеб, как на картине. Поэт выходит далеко за пределы своей частной ситуации. «Осмысливая свою драму, Бродский идет от однозначности идеи христианского искупления и всепрощения к признанию внутренней неоднозначности всех проявлений человеческой сущности <...> не христианской идеей искупления должно определяться отношение к „греху“ возлюбленной, а пониманием сложной природы человека» (с. 69). Венера не грешит по неведению, как Ева, а воплощает изначальную раздвоенность — склонность к греху и способность к духовному преодолению своей сущности. Одно из достоинств книги Автухович — в том, что автор не останавливается на одной интерпретации, отмечая, что проблема вины и греха может быть связана не с героиней картины, а с самим автором экфрасиса, предполагая его суд над собой.
Экфрасис может быть полемикой. Так, фонтан в одноименном стихотворении у Бродского — не идиллия, а пересохшие уста и проржавевшая гортань. Крапива — знак запустения — и одновременно — уколов любви и предательства (с. 85). «Рождественская звезда» Бродского полемизирует с одноименным стихотворением Пастернака, противопоставляя размытой повествовательности и универсальному пейзажу лаконичность и точность, дружелюбию пространства — одиночество, односторонность взгляда Бога на людей (причем этот взгляд — одновременно и опора в холоде, и подавление свободы) (с. 207).
Тексты, связанные с живописью, отражают и эволюцию Бродского: «...процесс нарастания в его отношении к миру трагической иронии и скепсиса, процесс выпадения, ухода из пространства и перемещения в позицию вненаходимости по отношению к жизни» (с. 31). По мере развития исследования его автор отходит от непосредственного экфрасиса все дальше. Какой натюрморт послужил прообразом одноименного стиха Бродского, едва ли есть смысл угадывать. Речь скорее идет об идее натюрморта у Бродского в определенный момент развития его поэтики — в обстановке отчаяния и принятия его неизбежности. «Ключевые предметные образы стихотворения (буфет, пыль, кровь, дерево, земля, глина, камень, сеть) это именно „вещи“, знаки определенной идеи, культурного смысла» (с. 107), при помощи которых создается своего рода автопортрет поэта. Здесь речь идет об анализе не экфрасиса, а скорее предметной образности. Картины Карла Вейлинка (точнее, Виллинка) выводят Бродского к теме разрастания угрожающего абсурда. И это снова не описание отдельных картин, а взаимодействие с их общим настроением, авторефлексия на тему растущего отчуждения от мира (с. 122–123).
Характерна многозначность названия стихотворения «Посвящается Пиранези», где Пиранези может выступать как адресат посвящения, как герой картины и как участник обряда посвящения (с. 131). Автухович обращает внимание и на неопределенность взаимоотношений между состояниями и моментами времени, относящимися к персонажу. Все более условный герой становится выражением общечеловеческих проблем. Исследовательница привлекает для анализа образности картины также произведения Беллини и Тициана, что совсем размывает идею экфрасиса (имеющего в данном случае в виду несколько произведений разных художников). Стихотворение прочитывается как созданное также и средствами живописи исследование равнодушия пространства к человеку, разрушающего действия времени и на отдельного человека, и на культуру. Увеличение многозначности у Бродского прослеживается на примере стихотворения «Ritratto di donna». Искусство одновременно и в плену времени, становясь товаром, и побеждает время, сохраняя ускользающие мгновения. «Что является истинным — реальный (миметический) портрет женщины или портрет визионерский, отразивший видение художника и процесс его самопознания?» (с. 159). Соотнесение стихов со взаимоотношениями с Мариной Басмановой становится все более отдаленным. Продолжение сквозных мотивов Бродского и в этом стихотворении ведет к вопросу о том, насколько удался Бродскому шаг в сторону от себя, если его «любовная лирика — автопортрет автора, а не портрет одной из его возлюбленных» (с. 167).
Последние страницы книги открывают различные перспективы исследования соотношения словесного и визуального, напоминая высказывание М. Бланшо, что язык способен «видеть вещь со всех сторон», высказывание О. Седаковой, что слова могут вывести в зрительно непредставимое вроде красной белизны или узкой шири (с. 236–237). С другой стороны, визуальные образы, порожденные произведениями искусства, выступают как своего рода слова в поэтическом произведении. «Экфрасис — это способ установления множественности точек зрения» (с. 243) — современная литература и филология продолжают исследование мира в его многозначности и неопределенности.
Александр Уланов

Тименчик Р. Подземные классики: Иннокентий Анненский. Николай Гумилев.
М.: Мосты культуры/Гешарим, 2017. — 776 с. — Тираж не указан. — (Вид с горы Скопус).
В новый сборник историка литературы, одного из ведущих исследователей Серебряного века, профессора Еврейского университета в Иерусалиме Р.Д. Тименчика вошли статьи, написанные в разное время и посвященные проблемам биографии, творчества и репутации «заглавных героев» — И. Анненского и Н. Гумилева. Последним и неизбежным разделом стали работы, посвященные Анне Ахматовой. Тематические и методологические приоритеты сформулированы в заключительных словах предисловия: «о литературе на фоне литературного быта» (с. 22), но само по себе предисловие заслуживает отдельного разговора. По сути, это самостоятельная статья, раскрывающая смысл заглавия — двойной цитаты из Волошина и Реми де Гурмона: кто такие «подземные классики»? Это сюжет рецепции, и речь здесь о репутации «посмертно проклятых» поэтов, чьи «алтари в глубине крипт». Иными словами, это увлекательная история «катакомбного культа», при этом автор обращается именно к «истории читателей» (не путать с социологической «историей чтения»), раскрывает рабочую метафору Б.В. Томашевского о читательских «школах» и заключает необходимостью «анализа коллективного текста читательской рецепции».
Всего в сборнике четыре раздела: два «именных» — «Иннокентий Анненский» и «Николай Гумилев», отдельный раздел представляет статью «Анненский и Гумилев», где наглядно описаны отношения ученика к учителю, усвоенные уроки, «обязательства перед тенью» и позднее отречение. Наконец, в последнем собраны статьи о литературных и биографических отношениях Н. Гумилева и А. Ахматовой.
Раздел об Анненском открывает подробный — исторический, биографический и поэтологический — комментарий к «Старым эстонкам», призванный объяснить и сюжетную параллель с «Рассказом о семи повешенных» Леонида Андреева, и позднее определение Ахматовой: «Он был преддверьем, предзнаменованьем / Всего, что с нами позже совершилось...» Затем следует «Трилистник юбилейный с субботним приложением» (статья была написана для сборника в честь 60-летия А.В. Лаврова), представляющий близкие и неожиданные контексты «дачной» «Баллады» 1909 г. По смежности в этом «дачном трилистнике» оказываются блоковская «Незнакомка» и комаровский «оммаж» Ахматовой, написанный Бродским на ее день рождения 1962 г. При этом блоковские контексты расширяются благодаря разноречивым «меморатам» Петра Потемкина, а в стихах Бродского, помимо биографических мотивировок, отдельно разъясняется «флажолет» как метонимия декаданса (с. 51) и ассоциативно появляется еще одна существенная деталь позднесоветской «читательской истории» Серебряного века: роль Маяковского как посредника и наиболее доступного источника. Наконец, «субботнее приложение» называется «Спутник кинозрителя», и здесь раскрываются закадровые стихотворные цитаты, собственно «чужое слово» в фильме А. Германа «Хрусталев, машину». Отметим также поразительную оркестровку «трилистника» и мотив (мелодию) флейты, который проходит через все его части.
Короткая статья об «устрицах» у Ахматовой и Анненского — еще одно расширение и, фактически, переадресация контекста одного из самых популярных стихотворений с доселе привычным северянинским (экзотическим) комментарием. И последняя работа этого раздела — своего рода рифма к предисловию: публиковавшаяся в нескольких вариантах и дополненная монография «К истории культа Анненского».
Раздел, посвященный Гумилеву, открывается трехчастным биографическим исследованием. В первой части, которая была написана в соавторстве с К.М. Азадовским и в свое время стала одной из первых публикаций о «реабилитированном» поэте (Русская литература. 1988. № 2), комментируются фрагменты дневников и альбомов Ф.Ф. Фидлера, имеющие отношение к участию Гумилева в литературном кружке «Вечера Случевского». Второй атрибутированный и прокомментированный мемуарный эпизод относится к 1920 г. и «домлитовскому» быту, принадлежит Н. Яблоновской (подписан инициалами Н.Д.) и вошел в состав ее повести «Двадцать первый». Он тоже ассоциативно связан с К.М. Азадовским — впервые увидел свет в сборнике в честь его 70-летия (Россия и Запад. М., 2011). Последняя часть представляет собой символическое «уничтожение» одного из мистифицированных источников, — «псевдомемуаров» М.А. Суганова (Талызина) с беллетризированным рассказом о последних днях Гумилева. Отметим, что «уничтожение» происходит в том числе и полиграфически: псевдоисточник помещен здесь в перевернутом — с ног на голову — виде. Большая работа о «заблудившихся трамваях» — «исправленное и дополненное издание» давней легендарной статьи «К символике трамвая в русской поэзии», опубликованной в XXI выпуске «Трудов по знаковым системам» (1987). Отдельный интерес представляет здесь история той первой публикации, когда само имя автора «Заблудившегося трамвая» было табуировано и текст статьи содержал артистически исполненное «задание» («преодоленную трудность»): собрание бытовых и символических контекстов и подтекстов самого знаменитого стихотворения Гумилева, — подразумеваемого и неназванного. Замечательно это превращение цензурного запрета в игру с дополнительным пуантом в виде эпиграфа из другого табуированного автора с теми же инициалами («...и все твое лицо прекрасно, как трамвайное кольцо»). Ср. заключительный автокомментарий: «Инициалы в эпиграфе были решительно сняты Ю.М. Лотманом и З.Г. Минц, так как они подумали, что он взят из каких-то стихов Гумилева, ни разу в том варианте статьи по имени не названного. На самом деле причиной обозначения автора инициалами было табуированное имя диссидентки и эмигрантки Горбаневской» (с. 387). Герои диптиха «Около акмеизма» — участники «опоздавшего» к первому «Цеху поэтов» петроградского университетского Кружка поэтов (1915) и Виктор Тривус (1896–1920), а также принадлежавшая ко «второму призыву поэтических воспитанников Гумилева» Маргарита Тумповская (1891–1942). «Скандалы Гумилева» — о литературных отношениях и все той же «посмертной» репутации («алтарях в глубине крипт»). Последним из таких посмертных скандалов — любовно переплетенным в сафьян двухтомником «запретного поэта» в тайном шкафу второго секретаря ЦК Егора Лигачева — Тименчик завершает статью. Вероятно, с литературными отношениями связана и небольшая статья-капустник о гумилевском источнике «Крокодила» К.И. Чуковского. Заметим, что, кроме наблюдений о Гумилеве-крокодиле и самой заметки 1970 г. о перекличках «Крокодила» и «Мика», здесь опубликован «научный фельетон» Б.М. Эйхенбаума «Крокодил в литературе (совершенно серьезное исследование»). Наконец, заключительная статья раздела полностью соответствует сформулированному в предисловии сюжету: она представляет «читательские школы», собственно текстуальную реализацию культа «посмертно проклятого» поэта (в том числе в приложениях, где мемуарный эпизод В. Мониной, (про)гумилевская полемика рапповцев В. Саянова и Г. Лелевича, стихотворные оммажи К. Беседина и И. Поступальского).
И последний раздел, «Ахматова и Гумилев», состоит из документальной «биографической новеллы» об истории сватовства и о киевской гастроли «Острова искусства» (1909), еще одной столь же фундированной «новеллы», сопровождающей публикацию двух писем Ахматовой Гумилеву лета 1917-го из архива Я.И. Бикермана, а также из развернутого комментария к двум киевским стихотворениям 1915 г. и последующим, так или иначе связанным с Киевом, с колоколами киевских храмов и венчанием «девы и воина». Тименчик раскрывает акмеистические, теологические и цитатные подтексты, встающие за стихами о «киевском Храме премудрости Бога», — от «Столпа и утверждения истины» П. Флоренского до гоголевского «Вия». Отдельный сюжет посвящен природе «цитатности» у Ахматовой, выходящей из ее представлений о «все сохраняющей» Божией Памяти и «личностной памяти-верности».
Такова в очень общем приближении структура этой книги и ее видимый (насколько это возможно в сборнике статей) сюжет. Но есть еще нечто, что делает сборник статей разных лет сложным и стройным архитектурным сооружением, — все эти внутренние рифмы и переклички, артистические эпиграфы и автокомментарии, все то, что превращает скрупулезное источниковедение и подробное академическое комментирование в игру, а филологию — в «веселую науку». Наверное, стоило написать о многостраничных примечаниях и сносках, которые чаще всего представляют собой самостоятельные исследовательские сюжеты, об огромном количестве текстов и источников, которые едва ли не «между делом», без публикаторской амбиции, все тем же «сносочным» петитом вводятся в оборот, о том, как из огромной массы привлеченного комментаторского материала складывается «живая картина», насыщенное событиями, сложное и драматичное историческое полотно. И я даже нашла подходящую по смыслу формулу о «переходе количества в качество», но, оказывается, той же «энгельсовской» формулой (подкрепив ее ссылкой на Стругацких) воспользовался мой предшественник А.Л. Соболев в рецензии на другой сборник Р.Д. Тименчика «Ангелы. Люди. Вещи» (2016) (Соболев А.Л. Убежище // Знамя. 2016. № 8). Однако он вкладывал в нее несколько иной смысл: такой методологический подход — «сквозной просмотр», помимо «заполнения белых пятен», предполагает еще одно свойство — «непредсказуемость находки». Добавлю, что такого рода «непредсказуемость» мы привыкли числить за художественными текстами, собственно, она и отличает искусство от подражания. Отныне очевидно, что научному тексту она точно так же присуща и точно так же превращает его в искусство. Наконец, помимо «непредсказуемости» такого рода открытий, создается ощущение их неизбежности. Назовем это благодарностью материала.
И. Булкина
Буров С.Г., Ладенкова Л.С. Александр Введенский: равнение на смерть.
СПб.: Петрополис, 2017. — 312 с. — 500 экз.
Книга посвящена одному стихотворению Введенского, «Элегии», и использует один метод — поиск интертекстов. Авторы исследования предлагают понимание «Элегии» в традиционном смысле — как печальной песни, прощания с русской классической культурой и с жизнью самого поэта. Но расширяется ли оно до прощания с собственной поэтикой и надеждами на креативность авангарда? «Элегия» отличается от других стихов Введенского регулярностью, но продолжает их ориентацией на ассоциативные, а не повествовательные способы создания смыслов. Она — не последнее из сохранившихся произведений Введенского, за ней следует «Где. Когда». Пожалуй, более взвешенным является утверждение авторов, что «Элегия» — «не отказ от обэриутской поэтики, но развитие ее в сторону поэтики интертекстуальной» (с. 68). И действительно ли безысходность настроения Введенского объяснялась тем, что «поэт и его серийно выстроенная „Элегия“ осознают себя лишь очередными „дублями“ — поэтов и элегий прошлого» (с. 23)? Стоит ли предлагать Введенскому постмодернистскую идею о том, что все уже было? Не идет ли речь скорее о восприятии им живой традиции, находящейся под очень вероятной угрозой насильственного прерывания, как и его собственная жизнь? Кажется, что авторы исследования настолько увлекаются интертекстами, что порой забывают об окружавших поэта арестах и одичании соотечественников. «Судя по тому, что в последние годы жизни в Харькове Введенский вел изолированное существование как писатель и не читал своих произведений окружающим людям, для него был актуален процесс внутреннего „превращения“ в печать Соломона» (с. 59) — здесь изоляция Введенского выглядит едва ли не добровольным выбором.
Внимание авторов к деталям велико. Появление Т в рифме «элегия — телеге я» служит поводом для большого экскурса в историю значений буквы «Т» от греческой «тау» и «тау-креста» (с. 116–118). Много места в книге отдано числовой магии. Сравнивая числовые характеристики Торы и «Элегии», авторы отмечают, что «Элегия» «предстает аналогом не священного текста Торы, а промежутков, пустых мест между его параграфами и книгами» (с. 63). А 72 строки «Элегии», по мнению авторов, могут соответствовать 72 именам Бога, зашифрованным, по мнению каббалистов, в Ветхом Завете (с. 26). Но воспринимал ли Введенский то, что пишет, как Библию? Авторы сами отмечают, что «Элегия» представляет собой «не восхваление Господа через обращение к Нему, а скорбные ламентации разуверившегося в присутствии Бога в мире» (с. 27).
Эрудиция авторов замечательна, но связи, предлагаемые ими, порой настолько далеки, что выглядят произвольными. Например, 9 строф «Элегии» соотносятся с 9 небесными сферами и 9 мастерами, ищущими Хирама (с. 45), но они же с 9 лишними солнцами-воронами в китайском мифе (с. 73), и тут автоматически появляется солнце русской поэзии, причем авторы исследования не учитывают, что оно благотворное, а китайские — губящие землю. Под «летят божественные птицы» подразумеваются летящие на битву Петр I и «птенцы гнезда Петрова», только на основании того, что царь — помазанник божий (с. 74), в дополнении с отсылкой к тем же солнцам-воронам (хотя у птиц косицы, и они скорее уж ласточки). Далее числа «Элегии» соотносятся уже с мандалой (с. 75). Так Тора или буддизм? Когда все связано со всем, ничто ни с чем не связано. Может быть, из-за количества приводимого материала авторы часто не замечают внутренней противоречивости собственной аргументации.
Строка «пусть рысью конь спешит зеркальный» соотносится авторами с автопортретом Пушкина на коне, конем, на котором убегает из плена князь Игорь, и конем апокалиптического всадника (с. 244–246). Разброс значений у этих коней очень велик, и возникает впечатление, что авторы исследования накапливают частные интерпретации, не пытаясь увязать их в общую картину, которая, вероятно, какие-то смыслы отсеяла бы. «Зверем» называли Сталина в лагерях, но неужели Введенский ему завидовал, и строка «я с завистью гляжу на зверя» относится к этому? (с. 198). Скорее, авторов исследования подводит невнимание к образу зверя в других текстах Введенского.
Почему телега из эпиграфа «Элегии» — арба? (с. 105). Только чтобы ввести встречу Пушкина с телом Грибоедова, которое везли на арбе? Далее телега соотносится с санями Владимира Мономаха (с. 112) — так можно привлечь и колесницу фараона. Интертекст связи возлюбленной и звезды огромен, едва ли тут дело только в подруге Хармса Эстер (с. 158). «Я посягнул на исходные обобщения» Введенского выводится из немецкого романтического поэта Й.Х. фон Цедлица в переводе Тютчева (с. 260) — будто иных посягнувших со времен падения сатаны не было. Даже противоположность не смущает авторов исследования — «турки» для них могут быть «намеком на греко-армянское происхождение Г.И. Гурджиева» (с. 254), потому что греки и армяне — противники турок. Авторы предлагают обратный порядок чтения строк в строфах (демонстрирующий процесс «взятия обратно» литературы) (с. 86), но этому противится текст «Элегии»; например, если читать «в руке травы державной / и пляшут сумрачные кони», союз «и» явно оказывается не на месте. Порой подводит и стиль: «его динамичная, несмотря на статичность, поза» (с. 231) — так какова поза все-таки?
Авторы исследования, кажется, приписывают Введенскому собственную сконцентрированность на интертексте. Неужели невозможно упомянуть паперть без отсылки к выпрашивающему что-то у западных правительств Милюкову (с. 136) — просто из-за комплекса значений, связанных с папертью? А слово «кусака» могло войти в текст только через рассказ Л. Андреева? (с. 144). Поиски интертекста порой блокируют анализ ассоциаций: «...в строке 19 „...а мы глядим в окно без шторы“, очевидно, воспроизведена ситуация отдыха в одной комнате с одним „широким окном“ в московской „здравнице“ в голодном 1920 г., в которой оказались Иванов и Гершензон» (с. 265) — и на этом шатком основании к «Элегии» присоединяются смыслы «Переписки из двух углов», хотя, кажется, гораздо более плодотворным было бы поговорить об угрожающей и в то же время свободной пустоте незанавешенного окна.
Авторы исследования способны получать значимые результаты и иными методами. «В „Элегии“ „звезда бездушная“ не восходит, не падает, но светит в наступившей „ночи ума“, „все превращая в ноль“. Длительность этого процесса, становящаяся вневременной, подчиняет „я“ и „мы“ стихотворения и убивает надежду как на Воскресение Христа, так и на Его Второе пришествие» (с. 155). А блеск и скорость полетов птиц действительно выводят к динамизму досуга, занятий поэзией и философией, чему служил халат, противопоставленный мундиру (с. 229). Интересно наблюдение, что каждая из реалий первоисточников становится у Введенского связанной со смертью (хотя исходно этой связи могло не быть) (с. 145), что в стихотворении нет «ни тел, ни имен, ни прочих признаков, служащих конкретизации тех, кто разумеется под „я“, „ты“, „мы“, „они“» (с. 17). Авторы отмечают использование Введенским поэтических штампов вроде «горные потоки». «Элегия» — «собрание голосов, отделившихся от своих носителей и потерявших их авторские имена» (с. 23). Игра истертыми образами делает Введенского предшественником концептуализма. Жаль, что таких анализов в книге мало.
Интересно смелое предположение, что «в образе „всадника бедного“ Введенский контаминировал Христа, сходящего в ад (на иконах часто в белых одеждах) и попирающего смертью смерть, и апокалиптического всадника-смерть на бледном коне <...>. Поэтому 71-ю строку следует толковать не как устремленность лирического субъекта к смерти, а как его самоотправку на ее уничтожение с помощью смерти же» (с. 282). Оно подводит к выводу книги: «...в „Элегии“ нет экзистенциального страха <...>. Введенский преодолел его, выйдя из ожидания смерти в состояние, когда она уже принята» (с. 285). Хотя он мало соответствует заявленным в начале разуверению в творчестве, осознанию себя только дублем поэтов прошлого и т.д. Видимо, книга — хороший пример возможностей метода исследования интертекста по накоплению информации и недостатков этого метода в областях верификации и увязывания собранного.
А. Кислов
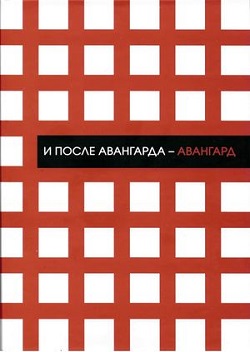
И после авангарда — авангард: Сб. статей.
Ред.-сост. К. Ичин.
Белград: Изд-во филологич. ф-та Белградского ун-та, 2017. — 236 с. — 300 экз.
Содержание: Яблоков Е. «Может, природа нам что-нибудь покажет внизу»; Успенский П., Файнберг В. Как устроена «Элегия» Александра Введенского?; Лазарева Е. Второй авангард: к вопросу о терминологии; Валиева Ю. «Труда уду уда труду»: о поэтическом авангарде 1950-х годов; Смирнов И. Авангард-3; Маурицио М. Неофутуризм в московском самиздате сталинского и послесталинского (оттепельного) периода; Петров А. Поэты за бортом: «Синтаксис» (1959–1960) — неподцензурный журнал времени оттепели; Хэнсген С. Лианозово. Эстетика окраины; Ичин К. Забор в творчестве Михаила Рогинского; Гюнтер Х. Картина или плакат? Работы Эрика Булатова советского периода; Гадас М. «Химия и жизнь»: научно-популярное издание о современном искусстве; Bojić Z.The establishment and the global artist: the case studies of Marina Abramović and Komar & Melamid; Григорьева Н. Формализация мистерии в московском концептуализме 1970–1980-х годов; Ландолт Э.«Каширское шоссе»: отчаянное хождение в метафизику; Кусовац Е. Уход в неизвестное: «Коллективные действия» и Инспекция «Медицинская герменевтика»; Обермайр Б. О газете в литературном повествовании 80-хгодов; Лугарич Д. Личное как политическое; Йовович Т. Литературный инцидент Льва Рубинштейна: освобождение стихов от поэзии; Гречко В. Авангард и простота: о наивном и примитивном в новой поэзии; In memoriam: Кукуй И. Поэт, переводчик, философ: Анри Волохонский (1936–2017); Волохонский А. Стена виноградная.
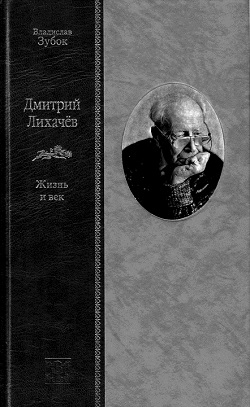
Зубок В. Дмитрий Лихачев: жизнь и век.
СПб.: Вита Нова, 2016. — 608 с. — 800 экз.
Автор первого монографического жизнеописания академика Д.С. Лихачева историк Владислав Зубок — профессор Лондонской школы экономики и политических наук, в прошлом — сотрудник Архива национальной безопасности в Университете Джорджа Вашингтона в США. Сфера его интересов — общественная и интеллектуальная жизнь России ХХ века. Его исследования «Неудавшаяся империя: Советский Союз в холодной войне от Сталина до Горбачева» и «Дети Живаго. Последняя русская интеллигенция» выходили по-английски в американских университетских издательствах, первое было издано и в русском переводе. Жизнеописание Лихачева вышло вначале в питерском издательстве «Вита Нова» и лишь потом в лондонском издательстве «I.B. Тauris», причем в выходных данных русское издание обозначено как перевод с английского.
Для автора этой книги Д.С. Лихачев в ряду общественно значимых фигур и русских мыслителей второй половины ХХ века составляет пару А.И. Солженицыну, их расхождения и их противостояние во многом определяют картину новейшей интеллектуальной истории России. При этом, как справедливо замечает Владислав Зубок, имя Лихачева, в отличие от имени его «интеллектуального визави», на Западе практически неизвестно. По всей видимости, издание этого жизнеописания призвано в какой-то степени восстановить справедливость.
В предисловии автор предупреждает, что не является филологом и настоящий предмет его интересов — не научная биография, а, скорее, история русского мыслителя, его становление и его роль в общественной жизни СССР и России второй половины прошлого века. И в самом деле, здесь подробно прослеживаются те идеи и те движения общественной мысли, которые с начала ХХ в. и до его конца, так или иначе, определяли «русскую философию», русское национальное самосознание и, соответственно, оказывали влияние на формирование мировоззрения героя книги. В первых главах проанализированы семейная история и круг домашнего чтения (любимым писателем у Лихачевых был Лесков). Затем из всего круга идеологических идей начала ХХ в. автор выбирает (и этот выбор кажется неслучайным и убедительным) такие разные по смыслу концепты, как «Святая Русь» и так называемое «Heimatkunde» («родиноведение») — немецкая идея о привязанности к «малой родине», которая легла в основание «школы исторического краеведения» Н. Анциферова и И. Гревса, имевшей огромное значение для «петербургской культуры» как таковой и оказавшей серьезное влияние на работы Д.С. Лихачева о Петербурге. Автор этой книги, к сожалению, вспоминает о ней лишь мельком, в контексте первой экскурсии школьника Лихачева на русский Север (1921). Культурная жизнь Петрограда 1920-х описана под знаком цитаты из Л.Я. Гинзбург: «У нас сейчас допускаются всяческие национальные чувства, за исключением великороссийских». В целом начало интеллектуального пути будущего академика Зубок прослеживает в направлении «от противного», и соответствующая глава называется «Против течения». В годы, когда из России отплывали «философские пароходы», Лихачев обращается к философии, но не к марксизму и не к Ницше, а к Анри Бергсону и Николаю Лосскому, он посещает собрания «Хельфернака» на квартире И. Андреевского, и Зубок отдельно отмечает то влияние, которое оказала на него «философия времени» С.А. Алексеева-Аскольдова. В годы преследований церкви и разрушения храмов он становится членом Братства Серафима Саровского. Самым близким Лихачеву «русским мыслителем» Зубок полагает Петра Струве, а его национальное чувство определяет (вслед за самим Лихачевым) как религиозное: «Мы плакали и молились». Несколько неожиданно в таком контексте выглядит КАН (Космическая академия наук), «смеховой» осколок «Хельфернака», но именно по делу этой карнавальной «котерии» в 1928 году Лихачев был арестован и сослан на Соловки. Зубок подробно описывает «интеллектуальную жизнь» СЛОНа, знакомство Лихачева со знатоком древнерусского искусства, реставратором Соловецкого монастыря А.И. Анисимовым, юристом А.Н. Колосовым и «русские разговоры» в кружке А.А. Мейера, одного из основателей Вольфилы.
Годы после освобождения описаны под знаком более или менее налаживающегося быта и «ухода в науку». Затем следуют война, блокада, дистрофия и счастливое спасение (не в малой степени заслуга тогдашнего директора Пушкинского Дома В.А. Мануйлова). Послевоенные работы Лихачева о древнерусской литературе и его неожиданная академическая карьера представлены с некоторой осторожностью: автор этой биографии не пытается анализировать соотношение исторического официоза и оригинальной исследовательской позиции Лихачева, хотя подробно останавливается на значении, которое имели для его научной работы дружба с Б.А. Романовым и участие в его судьбе А.С. Орлова и В.П. Адриановой-Перетц. Но гораздо большую роль здесь сыграли послевоенные перестановки в Академии наук и новые «государственные приоритеты», напрямую связанные с «патриотическими» концепциями русской истории. В разделе, посвященном «проработочной» кампании конца 1940-х, «безупречному поведению» Лихачева и его защите книги Б.А. Романова (сам Романов находил эту позицию не столь безупречной: Лихачев по ходу «защитительной речи» позволил себе научную критику работ Н.Л. Рубинштейна, которые стали мишенью критики идеологической), автор остроумно замечает, что «Лихачев умело использовал метод „туфты“, которым в совершенстве владел на Соловках, — он обезоруживал обвинителей, используя их собственный язык» (с. 238).
Центральными моментами интеллектуальной биографии Лихачева 1960-х стали его участие в инициированной о. Георгием Флоровским дискуссии «Slavic Review» о культурном наследии Древней Руси и полемика (довольно резкая) с Дж. Биллингтоном, настаивавшем на расхождении «московской» и «киевской» культурных традиций и «ордынском» происхождении русской имперской цивилизации. Лихачевская «линия защиты» включала в себя одновременно концептуальные и публицистические моменты, при этом публицистика зачастую мешала увидеть собственно идею («интеллектуальное молчание» древнерусской культуры Лихачев объяснял доминированием «художественного» — Древняя Русь, по Лихачеву, говорила языком иконы, церковной архитектуры и исторического эпоса). Репутация публициста и популяризатора во многом помешала увидеть правоту Лихачева в другой громкой полемике 1960-х, связанной с «опальной» работой А.А. Зимина об авторстве «Слова». Оппоненты в одинаковой степени стали жертвами «закрытой» системы, не предполагавшей полемики как таковой: в позиции Лихачева зачастую видели исключительно отстаивание официоза, но не текстологическую аргументацию (сегодня блестяще продолженную и подтвержденную А.А. Зализняком). Наконец, на официозной репутации академика сказалась история с «коллективными письмами»: Лихачев всегда отдавал предпочтение «тихой дипломатии», причем биограф склонен объяснять это «лагерным опытом», а не византийской искушенностью историка.
Едва ли не самый серьезный удар по репутации Лихачева нанесла публикация его «благостных» (по определению Б.Ф. Егорова) «Заметок о русском» через несколько месяцев после ввода советских войск в Афганистан. В своем стремлении создать в целом позитивное представление об ученом Зубок «компенсирует» «Заметки о русском» вышедшей вслед за ними остроумной книгой «Смех в Древней Руси» (в соавторстве с А.М. Панченко и Н.В. Понырко).
Востребованность Лихачева новой властью автор книги однажды не без лукавства объясняет, кроме всего прочего, любовью четы Горбачевых «к масштабным умствованьям». Но настоящая причина невероятной популярности академика — ощущение необходимости «этического авторитета» в эпоху перемен (Зубок цитирует здесь «Воспоминания» Лидии Лотман). Добавим, что, в отличие от «космополита» Сахарова и «ежа» («человека одной идеи») Солженицына, Лихачев оказался «компромиссной фигурой» и для номенклатуры, и для «русской партии», и для либералов. «Лихачевский бум» наступает в 1986-м, когда бывший «опальный академик» едва ли не официально провозглашен «совестью нации» и «историком всея Руси». В следующей главе, посвященной учреждению и деятельности советского Фонда культуры, Зубок приводит убедительные свидетельства лихачевского разочарования и расхождения — сначала с Р.М. Горбачевой, а затем и с самим президентом. Замечательный и чрезвычайно характерный для Лихачева эпизод начала 1990-х — его совместная с недавним научным противником Дж. Биллингтоном деятельность по спасению древнерусских рукописей, и другой, сходный по смыслу жест — тайная передача отцу Иоанну Мейендорфу мощей св. кн. Даниила летом 1991 г. По крайней мере, Зубок полагает, что это произошло именно тогда, и видит в этом последовательные свидетельства едва ли не панического настроения, которое охватило Лихачева в конце горбачевского правления. Вероятно, академик что-то знал или предчувствовал накануне путча — он, в самом деле, опасался возвращения коммунистической диктатуры. Тогда же, во время Международного конгресса византологов, он произносит знаменательные слова о «необратимой» и «насильственной» смерти русской культуры и о необходимости строить новую европейскую культуру. Это выступление автора «Записок о русском» и убежденного сторонника «единого культурного пространства» сегодня мало кто вспоминает. Точно так же сегодня вряд ли помнят о том факте, что Лихачев был одним из немногих, кто в 1993-м призывал к люстрации партийной номенклатуры и офицеров КГБ. В начале 1990-х очень пожилой академик включился в политическую жизнь и, что было крайне нехарактерно для него, подписал несколько коллективных писем. Отстаивание «единого и неделимого» культурного пространства, борьба за сохранение музейных коллекций и библиотек, убежденность в приоритете русской культуры и языка в границах бывшей империи сделали его «культурным империалистом» в глазах большинства национальных элит. Автор новой биографии Лихачева не случайно делает акцент на принципиальном для своего героя «европейском выборе» русской культуры. Отчасти новая биография — ответ скептикам и критикам Лихачева слева и справа, а также своего рода культурная рефлексия на «популярную» биографию «академика всея Руси», написанную для серии «ЖЗЛ» Валерием Поповым: Зубок полагает, что «смеховая культура шестидесятников сочла Лихачева чужим» (с. 514). И, возможно, ключевая цитата, объясняющая появление и востребованность такой биографии сегодня, — реплика Солженицына в интервью Жоржу Нива (1985), когда он назвал Лихачева «символом инстинктивной самозащиты нации».
И. Булкина

Сенчин Р. По пути в Лету: Публицистика, литературная критика.
М.: Литературная Россия, 2015. — 304 с. — 1000 экз.
Сенчин Р. Конгревова ракета.
М.: Время, 2017. — 352 с. — 1000 экз. — (Диалог).
В предисловии к новому сборнику «Конгревова ракета» известный прозаик Роман Сенчин признается, что писатели, «не отступающие в жанр критики», вызывают у него недоверие. Причем не только потому, что они сами как будто «живут в стеклянном шаре». Именно писательское внимание не дает «забронзоветь» классической литературе: «Господствует мнение, что как бессмысленно копаться в статуях, стоящих на площадях, так же бесполезно и открывать книги, исследованные, изученные до последнего слова сотнями тысяч людей десятков предыдущих поколений» (Конгревова ракета, с. 5).
Сам писатель «отступает в жанр критики» уже давно, сборнику «По пути в Лету» предшествовали книги «Рассыпанная мозаика» (2008), «Не стать насекомым» (2011), «Теплый год ледникового периода» (2013). Все они были изданы «Литературной Россией», газетой, с которой Роман Сенчин долгое время сотрудничал. Сборник «По пути в Лету» составлен по хронологическому принципу, это публикации с 2011 по 2015 г., поэтому чередование публицистических и критических статей затрудняет целостное восприятие материала. «Конгревова ракета» выпущена в более респектабельном издательстве «Время», в серии «Диалог», где выходят книги таких ведущих критиков, как А. Немзер, А. Латынина, Н. Иванова. Здесь статьи и эссе поданы гораздо более выгодно, хронологический принцип другой, от Державина («Я пиит — я не умру») до Коржавина («Громкий поэт Наум Коржавин»).
Ключ к пониманию критической концепции писателя — образ, давший название центральной статье и всему сборнику. С «Конгревовой ракетой» (боевой ракетой, изобретенной У. Конгривом), «выжигающей все вокруг», Герцен сравнивал Белинского, классика, которого Сенчин предлагает вернуть в качестве примера для подражания: «С одной стороны, образ довольно зловещий, а с другой, — для появления нового необходимо освободить пространство. Невозможно почитать и беречь старое и в то же время создавать нечто новое. Так же выжигалось старое в 1860-е годы, в 1910-е, в 1960-е. По-настоящему ценное не выжглось, а зацветало после этого еще пышнее, ложные же ценности не жалко» (там же, с. 62). Эта статья, приуроченная к 200-летию со дня рождения Виссариона Белинского, была впервые опубликована в журнале «Урал». «Как, скажем, в 1970-е цитата из Белинского была обязательной в критической или литературоведческой статье, так в начале 1990-х стало считаться чуть ли не предательством по отношению к литературе Белинского даже упоминать» (там же, с. 34), — подобные сетования довольно справедливы. Однако нельзя не признать и того факта, что маску «главного критика» с удовольствием примеряли на себя представители цеха, что в 1970-е, что в 2000-е. Роман Сенчин предпочитает скорее «тренерскую» интонацию, он не претендует на роль участника «забега» на звание «критика номер один». Его задача — раззадорить других, вернуть в литературу азарт и жизнь: «Сегодня не только хорошей беллетристикой, но и качественной прозой никого не удивишь. Тем более у художественной литературы появляется все больше конкурентов... И чтобы всерьез пронять читателя, поймать его на крючок сострадания, настоящего внимания, нужно нечто большее, чем умный сюжет, глубокие мысли, прозорливость, мастерский язык. Наверное, это „нечто“ все-таки — ощущение абсолютной документальности» (По пути в Лету, с. 152). Сенчин такое писательское свойство называет «полезным талантом». Адресаты этого пожелания — все авторы, упоминаемые в статьях, от Дениса Гуцко, Александра Карасева, Ильи Кочергина, Дмитрия Новикова («Рассыпанная мозаика») — до Аркадия Бабченко, Александра Иличевского, Андрея Рубанова, Сергея Самсонова, Сергея Шаргунова («Питомцы стабильности или грядущие бунтари»).
Подражание Белинскому для Сенчина выражается и в другом. «Почти каждая большая статья (о повестях Гоголя, о стихотворениях Баратынского, о творчестве Пушкина, годовые обзоры русской литературы) открывается огромным вступлением, где анализировалось творчество Ломоносова, Кантемира, Тредиаковского, Сумарокова, Озерова...» — не поэтому ли и сам Сенчин начинает книгу с разговора о Державине. И сразу выводит разговор на современность: по его мнению, в сегодняшней литературе не хватает текстов, подобных державинскому обращению к «Властителям и судиям»: «Да и вообще слово сегодня маловесно, а жаль — к слову „земным богам“ стоило бы прислушиваться, в противном случае неуслышанное слово способно превратиться в действие» (Конгревова ракета, с. 26).
Далее эта апелляция к сегодняшним авторам и станет определяющей для всего сборника. Говоря о возрасте классиков, автор намекает на отсутствие достижений у нынешних «молодых» писателей. Посвящая статью любовной теме, Сенчин даже не пытается уравновесить воспроизведение фрагментов из «Крейцеровой сонаты» и дневников Льва Толстого небольшими цитатами из романов Захара Прилепина и Анны Козловой. Толстого он вспоминает с гораздо большим удовольствием и просто не может остановиться в цитировании.
Разговор о жанре рассказа Сенчин, конечно, иллюстрирует примерами из последних толстожурнальных публикаций, но самую подробную и объемную статью посвящает рассказам Василия Шукшина. В хронике «Десять лет» он разбирает историю публикаций Шукшина в «Литературной России»: «Думаю, не будет преувеличением сказать, что начало известности Шукшина-писателя положила бурная дискуссия под названием „Разговор пойдет о рассказе“, состоявшаяся в июне — декабре 1964 года на страницах „Литературной России“. В центре этой дискуссии поначалу оказались два шукшинских рассказа „Степкина любовь“ и „Племянник главбуха“, но затем она разрослась до отстаивания разными критиками и писателями своего понимания этого жанра и спора о том, что же такое искусство» (По пути в Лету, с. 170).
Говоря о возвращении реализма в прозе нулевых, Сенчин упоминает столь экзотического автора, как Виль Липатов: «Реализм вернулся обновленным, более ярким, богатым, свободным. То, над чем в 70-е бился Виль Липатов (по крайней мере, в плане формы — „Серая мышь“, „Игорь Саввович“), и потерпел в итоге неудачу, в нулевые утвердилось». Такой пример явно требует более подробного разъяснения, однако этого не происходит. Возможно, это лишь следы, по которым можно проследить эволюцию авторских взглядов: в сборнике «По пути в Лету» тот же Липатов упоминается трижды, а в «Конгревовой ракете» всего один раз. Роман Сенчин проделывает путь от скромного хроникера, фиксирующего все подробности полемики о персонажах Шукшина, до литератора (он сам объясняет преимущества этого термина), который активно выступает за приоритетное место социальных тем в современной прозе. «Без них литература наша будет если не безжизненной мумией, то полуживой, парализованной увядшей красавицей», — пожалуй, это, наряду с «критиком-ракетой», который сможет «выжечь все лишнее, чтобы начать с нуля», один из немногих красочных образов, который задействует автор. В целом его критический стиль можно определить как сдержанный и лаконичный. «Рассадник Писемского», «Заглянувший в бездну (О Леониде Андрееве)», «Из тайных книг (О „Чевенгуре“ Андрея Платонова)» — эти эссе из нового сборника вполне могли бы составить отдельную книгу, которую можно было бы смело рекомендовать в качестве школьного пособия по литературе.
Стоит также уточнить, что выбранную Сенчиным цитату все же нельзя рассматривать вне комического контекста. Речь в «Былом и думах» Герцена идет не только о Белинском-критике, но и о Белинском-персонаже, посетителе «московских гостиных»: «...я говорю о тех, в которых некогда царил А.С. Пушкин; где до нас декабристы давали тон <...> и куда, наконец, иногда падал, как Конгревова ракета, Белинский, выжигая кругом все, что попадало» (Герцен А.И. Собр. соч. М., 1955. Т. 2. С. 144).
Еще из небольших уточнений: упоминаемая пьеса «Пятидесятилетний дядюшка, или Странная болезнь» хоть и не вошла в 9-томник, но есть в 13-томнике Белинского («Конгревова ракета»). А Сергей Маковецкий в фильме «Груз 200» хоть и не сыграл роль профессора, но все же озвучил этого персонажа («Кто теперь раскадрует наш ад?»).
«Отступление в жанр» критики оказалось для Романа Сенчина довольно естественным и продуктивным: его трактовка темы «полезного таланта» подана вне привычной связи с почвеннической традицией и совершенно не исключает возможность эстетического эксперимента.
Е. Новикова
Благодарим книжный магазин «Фаланстер» (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27; тел. 8-495-749-57-21) за помощь в подготовке раздела «Новые книги».
Просим издателей и авторов присылать в редакцию для рецензирования новые литературоведческие монографии по адресу: 123104 Москва, Тверской бульвар, 13. «Новое литературное обозрение». Отдел библиографии.
Вернуться назад