Юлия Дрейзис
Маояз и ориентализм
01 января 2019
Юлия Дрейзис
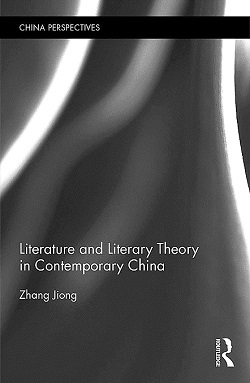
Zhang J. Literature and Literary Theory in Contemporary China.
L.; N.Y.: Routledge, 2017. — 200 p.
Летом 2017 г. академические круги потрясла новость: авторитетное, старейшее в мире Издательство Кембриджского университета выполнило «рекомендацию» китайских властей заблокировать онлайн-доступ к более чем 300 политически чувствительным статьям из журнала «China Quarterly». Этот симптоматичный скандал показал еще одну сторону «мягкой силы» Китая, уверенно заявляющего, что «Китай сейчас силен и способен защищать свои интересы»[1].
Книга профессора Чжан Цзюна — наглядная иллюстрация того, как гуманитарная наука вовлекается в выстраивание новой китайской идентичности. Сложный конфликт между интерпретацией реалий меняющейся КНР, ростом националистических настроений и желанием встроить и то, и другое в «марксистскую» систему в изводе китайского официоза порождает странные гибриды. На волне интереса к переосмыслению марксистской традиции на Западе эти работы, казалось бы, должны подкупать западного читателя ловким обращением с прецедентными текстами марксистской теории, но на практике оставляют неоднозначное впечатление. За фасадом научной монографии кроется продукт китайского агитпропа, выдержанный в лучших традициях жанра.
Книга Чжан Цзюна «Литература и литературная теория в современном Китае», как пишет сам автор в Предисловии, — это обобщение его многолетнего опыта научных исследований, редакторской практики и публичных выступлений, главным предметом которых неизменно являются взаимоотношения марксизма и литературы в КНР. Неудивительно, что издание книги профинансировала китайская Академия общественных наук. Гораздо менее тривиально выглядит ее публикация на английском языке в престижном издательстве, ориентированная на западную аудиторию.
Надо сказать, что литературовед Чжан Цзюн — фигура легендарная. С пятнадцати лет он участвовал в подпольной работе во время гражданской войны, служил политкомиссаром 2-го и 3-го отрядов Народно-освободительной армии, а затем — штаб-квартиры Фуцзянского военного командования. Чжан создал партизанский отряд из крестьян, школьников и студентов, который впоследствии захватил власть во всем уезде. В середине 1950-х гг., откликнувшись на призыв партии «маршировать в сторону науки», Чжан вместе с другим будущим известным литературоведом, Се Мянем, поступил в Пекинский университет. После небольшого дисциплинарного взыскания за «правый уклон» в 1957 г. Чжан продолжил стремительный карьерный взлет: работал руководителем отдела культуры журнала «Красный флаг», главой Института литературы Академии общественных наук КНР, главным редактором «Литературного обзора». Его перу принадлежит популярная в Китае «История новой китайской литературы» (2008).
В рецензируемой книге чувствуется погруженность в традицию, характерная для исследователя, воспитанного на изучении китайского литературного канона. Он много цитирует классические китайские работы по теории литературы: «Рассуждение об изящной словесности» Цао Пи (187—226), «Оду изящному слову» Лу Цзи (261—303), «Категории стихов» Чжун Жуна (467? — 518?), «Дракона, изваянного в сердце письмен» Лю Се (466? — 522?). Вместе с тем его собственные теоретические построения, по сути, распадаются на ряд самостоятельных «кейсов», которые объединены только внешней рамкой исследования литературных теорий в марксистской перспективе. Чжан Цзюн пишет, что первая часть книги посвящена развитию литературных теорий в современном Китае. При этом он пишет только о «китаизации» марксизма (с. 50), т.е. о проникновении в Китай марксистских идей, их интерпретации в работах Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, а также о развитии «революционной» литературы в 1920—1930-е гг. Получается весьма однобокая картина, в которой «за бортом» оказывается значительная часть китайской литературы, не относящаяся к реализму, в том числе модернистские эксперименты шанхайских и пекинских авторов, а также популярная «проза бабочек и уток-мандаринок».
О чем бы ни шла речь, в центре внимания Чжан Цзюна неизменно оказываются «Яньаньские выступления» (1942) Мао Цзэдуна, в которых новым творческим методом китайских революционных литературы и искусства провозглашается «пролетарский реализм» — этот термин Мао позаимствовал у Лиги левых писателей Китая[2]. Чжан Цзюн нигде не отмечает, что в 1950-е гг. термин этот был заменен в новой редакции «Яньаньских выступлений» на «социалистический реализм»[3]. Точно так же он игнорирует полемику начала 1960-х гг. об изображении «среднего героя» в противовес «идеальным личностям», которая разворачивалась главным образом вокруг толкования «Яньаньских выступлений».
Тезисы «Яньаньских выступлений» легли в основу литературного процесса после победы коммунистической партии и образования КНР в 1949 г. В ретроспективе период партийного руководства сферой китайской литературы с 1949 г. до начала 1960-х гг. выглядит как «серия взлетов и падений, когда партийное руководство то ослабляло свой контроль над литературой, то вновь “закручивало гайки”»[4]. Санкционированные партией литературные «оттепели» (создание Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства и Союза китайских писателей, курс «двойной сотни», политика «урегулирования») сменялись жесткой реакцией (борьба с группировкой Ху Фэна, «большой скачок» и борьба с «ядовитыми травами», сворачивание дискуссий о «среднем герое»). В книге Чжан Цзюна главной помехой на пути выстраивания адекватных литературных теории и практики предстает «левый инфантилизм и вульгарная социология», позаимствованные китайскими теоретиками у РАППа (с. 47). Несмотря на провозглашенный РАППом лозунг «учебы у классиков» и заложенный этим объединением принцип формирования соцреалистического канона — с оглядкой на традиционный культ классиков[5], Чжан Цзюн считает РАПП агрессивным «борцом с традицией» (с. 18). Он также критикует вмешательство жены Мао Цзэдуна, Цзян Цин, и «банды четырех» в область литературной политики; «культурная революция» предстает результатом исключительно их левоуклонистских увлечений (с. 67). Неизменным в рассуждениях автора о месте литературы в стремительно меняющемся мире остается только постулирование главной идеи «Яньаньских выступлений» — призыва изображать жизнь в литературе «возвышеннее, ярче, концентрированнее, типичнее и идеальнее, а значит, и более всеобъемлющей, чем обыденная действительность»[6].
В предисловии Чжан Цзюн пишет, что другая важная задача книги — познакомить читателя с теми вызовами и проблемами, которые поджидают «марксистские теории литературы и искусства» в новом веке, особенно в контексте «диверсификации литературы и искусства с точки зрения теории и практики и высоких технологий, которые породили электронное письмо и цифровую передачу литературных произведений» (с. 13). Интерпретация фактов в книге Чжан Цзюна подталкивает к выводу, что к числу главных «вызовов и проблем» автор относит стремительное усложнение китайской литературной сцены в период 1980—1990-х гг. Описание литературных школ, направлений и новаций этого периода — наиболее логически выстроенная и обстоятельная часть книги; она может служить подспорьем для знакомства с основными литературными трендами постмаоистского Китая. Все остальное, в том числе влияние интернета на пространство современной китайской литературы, изложено лишь пунктиром и служит формальным поводом для нового указания на передовые позиции «марксистской» теории китайского официоза.
Даже английский перевод книги Чжан Цзюна дает возможность в должной степени почувствовать шаблонность и тенденциозность языка, которым она написана. Этот язык — маоистский «новояз», сознательно сконструированный в процессе глубоких изменений, так или иначе связанных с политикой, идеологией и проекциями власти, которые коснулись Китая еще до 1949 г. Канцелярит партийных циркуляров сочетается в нем с пафосом популистского лозунга или коммерческой рекламы. В последние десятилетия этот пласт языковых практик был обогащен многозначительными формулировками неолиберальной экономической теории и возрожденными инвективами эпохи «культурной революции». Китайский «новояз» (или «маояз», в терминах синолога Джереми Бармэ) предоставляет лингвистическую архитектуру для выстраивания «китайской истории», описывающей те перемены, которые происходят с Китаем сегодня[7].
Китайский «новояз» включает в себя и язык моральной оценки, укорененный как в традиционных китайских языковых практиках, так и в тех, что были разработаны в советскую эпоху китайской политики. «Нравственно-оценочное» измерение опирается на конфуцианские моральные установки, которые использовались в китайской культуре на протяжении столетий. Любые рассуждения о литературе в традиционном Китае велись в связи с такими вопросами, как проявление природных закономерностей (паттернов-вэнь) или «вычитывание» из реальности моральных и дидактических суждений[8]. Тесная взаимосвязь литературы и философии создала феномен классической поэтики «Литературы как несущей Путь» (вэнь и цзай дао), функционирующий, что характерно, не только в традиционном, но и в современном общественном дискурсе[9]. У Чжан Цзюна морализаторство присутствует практически в любом отвлеченном рассуждении — от указаний на повсеместное проникновение американской культуры до замечаний о неравнозначности творчества автора, погруженного в жизнь «народных масс», произведениям поэта, укрывающегося от общества в «башне из слоновой кости». При этом оно сопрягается с трюизмами вроде тезиса, что «каждый литературный герой может отличаться от других героев, потому что они все живые» (с. 157), или с вульгарной антропологией: «Древние люди колоссальным образом отличались от современных людей тем, что ели других людей; особенно в случае войны — побежденный, как правило, съедался победителем» (с. 158).
Другая болевая точка «Литературы и литературной теории в современном Китае» — это озабоченность проблемой китайского национального величия. Как отмечает Джереми Бармэ, китайский «новояз» используется не только для внутренней коммуникации, но и широко применяется для «перевода» Китая, то есть для представления его внешнему миру на английском языке[10]. На протяжении десятилетий этот способ выражения был почти прерогативой пропагандистских публикаций, но сейчас занимает заметное место в репортажах и комментариях, публикуемых такими всемирно известными изданиями, как информационное агентство «Синьхуа», «China Daily» и «The Global Times». Китай стремится транслировать гибридные формы своей мутировавшей идеологии из желания доказать миру свое право высказываться по актуальной повестке дня. В не меньшей степени он озабочен проецированием образа «сильной державы», наконец «вставшей с колен». Чжан Цзюн поддерживает эту линию недвусмысленным образом: «Китайская нация отличается предприимчивым, отважным и миролюбивым нравом, который отражен во многих литературных произведениях. Современная эпоха предоставляет китайской нации редкую возможность возродиться и стать достаточно сильной, чтобы никогда больше не быть униженной другими нациями, как это уже случалось в прошлом» (с. 163). Символом истинного патриотизма становится для него фигура первого легендарного поэта Китая — Цюй Юаня (ок. 340 — 278 до н.э.)[11]. Читателю остается только с нетерпением ждать неизбежного появления рассуждения о порочной практике «тотальной вестернизации»: «Несмотря на то что по-прежнему необходимо обращать внимание и использовать в качестве примеров последние литературные достижения Запада по мере того, как Китай в ближайшие полвека будет становиться великой социалистической современной страной, не все западные вещи достойны нашего заимствования или ассимиляции по причине фундаментальных различий между Китаем и западными развитыми капиталистическими странами, невзирая на сходства в их общественных отношениях и идеологии» (с. 150). Чжан Цзюн призывает отказаться от всего потенциально «вредного» и «неблагоприятного» для Китая и подкрепляет свой тезис цитатой из Дэн Сяопина.
За рассуждениями об обновленном месте Китая в мире проглядывает глубокая озабоченность наличием самой дихотомии «Восток — Запад». Невзирая на то и дело звучащие призывы к автономии от внешних влияний, современная китайская литература представляет собой творческое поле, в гораздо большей степени интегрированное в общемировое литературное пространство, чем когда-либо. Большинство авторов с готовностью отмечают влияние, которое оказала на них западная традиция.
Без европейских понятий современный китайский язык труднопредставим. Однако эти слова лишены какой бы то ни было связи со значениями классического языка, кроме их выраженности при посредстве иероглифов. Трансформация китайских общества и культуры, начавшаяся в 1910-е гг., привела в конечном счете к трансформации литературы, сделала китайский авангард гораздо более близким к американо-европейскому культурному пространству. И все же, приоткрываясь внешнему, китайская литература продолжает балансировать на грани открытости. Она движется навстречу миру, но не может перестать говорить на «диалекте». Симптоматично в этом контексте положение современной китайской поэзии. Китайская поэтическая традиция представляет собой настолько замкнутую, изолированную от внешней среды систему, что существование поэта «в пограничной зоне» двух культурных полей оказывается для нее проблематичным. Развернувшаяся в последние годы в Китае дискуссия между поэтами-«интеллектуалами» и «народными» поэтами касается, среди прочего, того, следует ли китайским поэтам подражать своим западным «учителям» или же они должны писать стихи, основанные на «обычной жизни». Поэтический национализм заставил в свое время крупного поэта Юй Цзяня (р. 1954), автора из пограничной провинции Юньнань, заметить: «Я не верю, что китайские поэты могут писать на других языках», — и даже заявить, что «для китайских поэтов английский является в высшей степени второсортным языком»[12].
В попытке разрешить конфликт между традицией, современностью и ориенталистскими практиками Чжан Цзюн выбирает самоориентализацию. Он последовательно подчеркивает «экзотические», привлекательные для Запада компоненты китайского культурного универсума. При этом Чжан Цзюн временами превратно толкует традицию, например в своих неустанных попытках связать концепции западного гуманизма с традиционным конфуцианским концептом жэнь, «человеколюбие» (по сути, совокупностью всех видов правильного отношения к другому человеку и обществу).
Книга Чжан Цзюна — наглядная иллюстрация того, как зияющий разрыв между реальностью и риторикой в современном Китае в конечном итоге ведет к видоизменению остаточной идеологической силы партийного государства. При этом его правление создает целый ряд привлекательных и постоянных в своей основе идеологических симулякров. Сегодня они стремятся «переварить» культурные альтернативы в «постмодернистский пастиш», описанный в работах Михаила Эпштейна о советском идеологическом ландшафте[13]. Эпштейн считает, что тоталитаризм — это постмодернистская модель, которая заменила модернистскую идеологическую модель, разработанную в более раннем марксизме. В ее основе лежит использование «идеологем», которые могут охватывать как левые, так и правые концепции, покрывая весь спектр возможных сдвигов (и «влево», и «вправо») тоталитарной или, скорее, тотализирующей системы, способной включать в себя и согласовывать противоположные идеи. Такое оперирование «идеологемами» — это отражение философии политики, которая использует левые лозунги, чтобы победить правых, и правые лозунги, чтобы победить левых, во всем стремясь сохранить свое первенство, связанное не только с чисто политической властью, но и с господством в области идей и эмоций.
В этом смысле книга Чжан Цзюна не имеет отношения к литературоведению, критике или теории марксизма. Она представляет собой упражнение в тоталитарном дискурсе, который объединяет в себе самые разные идеологические доктрины. В Китае правящая идеология претерпела трансформацию, поглотив как левые, так и неолиберальные идеи. В этом контексте она «становится просто привычкой мыслить, способом выражения, призмой, в которой все взгляды и выражения преломляются вне зависимости от конкретных взглядов и идей, своего рода универсальной сетью, которая может сравниться с рекламными сетями Запада»[14].
Смысл выхода книги Чжан Цзюна на английском языке иной. Возможно, это акт борьбы с ориенталистским наследием, попытка дать слово предмету описания в надежде приблизиться таким образом к его пониманию. На практике эта попыт-ка выливается в свою противоположность: «Литература и литературная теория в современном Китае» служит средством выстраивания зеркального образа ориентализма — оксидентализма. Если возникновение ориентализма может быть объяснено особенностями евро-американской истории, то его современные проявления трудно истолковать с точки зрения прошлых отношений между ориентализмом и евро-американской моделью колониального управления. Оксидентализм последнего десятилетия служит выражением новообретенного чувства власти, которое сопровождает экономический успех восточноазиатских обществ, самоутверждающихся с оглядкой на более раннее евро-американское господство. В этом смысле «конфуцианское» возрождение (и другие типы культурного национализма) можно рассматривать как артикуляцию местной культуры и местной субъективности в противовес евро-американской культурной гегемонии.
[1] Из редакционной статьи в газете «The Global Times». Цит. по: Phillips T. Cambridge University Press Faces Boycott over China Censorship // The Guardian. 2017. 21 Aug. (www.theguardian.com/education/2017/aug/21/cambridge-university-press-faces-boycott-over-china-censorship).
[2] См.: Мао Цзэдун. Выступления на совещании по вопросам литературы и искусства в Яньани // Мао Цзэдун. Избранное. Харбин, 1948. С. 969—995.
[3] Мао Цзэдун. Выступления на совещании по вопросам литературы и искусства в Яньани // Мао Цзэдун о литературе и искусстве. Пекин, 1958. C. 71.
[4] Никитина А.А. О влиянии политики коммунистической партии Китая (КПК) на изображение персонажей в китайской литературе 1949 — начала 1960-х годов // Вестник СПбГУ. Сер. 13: Востоковедение. Африканистика. 2013. Вып. 2. С. 80.
[5] См.: Моллер-Салли С. «Классическое наследие в эпоху соцреализма», или Похождения Гоголя в стране большевиков // Соцреалистический канон. СПб., 2000. С. 509—522.
[6] Мао Цзэдун. Выступления на совещании по вопросам литературы и искусства в Яньани // Мао Цзэдун. Избранное. Харбин, 1948. C. 981.
[7] См.: Barmé G.R. New China Newspeak // The China Story. 2012 (www.thechinastory.org/lexicon/new-china-newspeak/).
[8] Ср.: Puett M. Philosophy and literature in Early China // The Columbia History of Chinese Literature / Ed. V.H. Mair. N.Y., 2001. P. 84.
[9] Даже в XIX веке, например в трактате Лю Сицзая (1813—1881) «Об искусствах» («И гай»), искусство трактуется как концентрированное выражение «принципа и закона бытия» Дао, несмотря на явную антиконсервативную направленность сочинения.
[10] См.: Barmé G.R. Op. cit.
[11] По легенде, Цюй Юань служил министром при дворе царства Чу и выступал против гегемонии царства Цинь. Оклеветанный, он был выслан из столицы. В 278 г. до н.э. столица Чу была захвачена циньскими войсками — узнав об этом, Цюй Юань покончил с собой. Его фигура была впервые поднята на щит китайскими националистами во время Второй мировой войны (см.: Hawkes D. The Quest of the Goddess // Studies in Chinese Literary Genres. Berkeley, 1974. P. 42). Восприятие Цюй Юаня как «первого патриотического поэта Китая» стало каноническим после 1949 г. и вошло в школьные учебники. Этот культовый статус затмил критические научные оценки историчности Цюй Юаня и атрибуции его текстов, которые сложились во времена поздней Цин и ранней Республики (1900—1931).
[12] Цит. по: Ouyang Yu. Multicultural Poetry as Unwritten in China (Or: The Night You Want to Sleep Away) // Standards. 2001. Vol. 7. № 2 (www.colorado.edu/journals/standards/V7N2/FIRST/ouyang.html).
[13] См.: Epstein M. After the Future: The Paradoxes of Postmodernism and Contemporary Russian Culture. Amherst, 1995. P. 5—7, 159.
[14] Ibid. P. 156
Вернуться назад