Ю.Л. Сапожникова
Есть ли правда в жизнеописаниях и если да, то в чем она?
17 апреля 2019
Gudmundsdottir G. Representations of Forgetting in Life Writing and Fiction.
L.: Palgrave Macmillan, 2017. — XII, 188 p. — (Palgrave Macmillan Memory Studies).
Experiments in Life-Writing: Intersections of Auto/Biography and Fiction / Eds. L. Boldrini, J. Novak.
Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2017. — XIII, 298 p. — (Palgrave Studies in Life Writing).
Autofiction in English / Ed. H. Dix.
Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018. — XVI, 283 p. — (Palgrave Studies in Life Writing).
В этом обзоре будут рассмотрены одна монография и два сборника статей, посвященные вопросам воспоминания и забывания, правды и вымысла, идентичности как раз и навсегда зафиксированной данности и постоянно меняющейся множественности разных воплощений «я», исследуемым на материале разных форм жизнеописания.
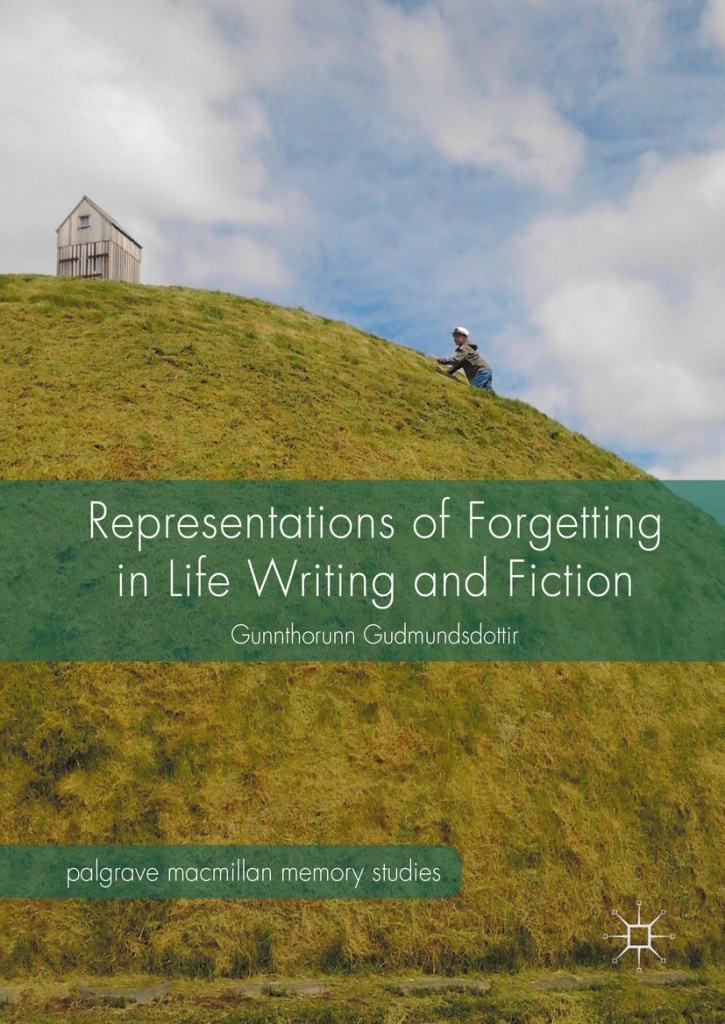
В монографии Гуннторунн Гудмундсдоттир «Изображение забывания в жизнеописаниях и художественной литературе» показаны методы и стратегии, которые используют писатели при описании забытого: по мнению исследовательницы, забывание является постоянным элементом в любом тексте, связанном с воспоминаниями, и играет решающую роль в работе памяти, отражаемой в такого рода произведениях. Основная цель работы — изучить связь индивидуального забывания и забывания с точки зрения культурной памяти. Автор опирается одновременно на исследования памяти (memory studies) и на теории жизнеописания; последние необходимы для того, чтобы лучше понять, как забывание проявляется в повествованиях разных писателей. Книга состоит из двух основных частей: первая посвящена роли забытого в индивидуальной истории жизни, при этом исследуются различные типы жизнеописаний и современных форм самовыражения — от традиционной автобиографии до страниц в социальных сетях; во второй части рассматриваются социальные аспекты забывания в вымышленных и автобиографических текстах памяти, при этом особый акцент делается на культурной памяти.
Первая часть начинается с анализа роли вступительных замечаний в автобиографии — введений, предисловий или просто нескольких слов в первых абзацах текста. В одних случаях это предупреждение о правдивости текста, в других — предостережение от трактовки основанного на памяти текста как исторического документа. Здесь Гудмундсдоттир вспоминает выражение знаменитого американского фотографа Салли Манн «истина памяти»: память может обеспечить лишь эмоциональную, личную истину и не может гарантировать исторической точности текста.
Далее рассматривается использование паратекстов, таких как обширные сноски, исправления или множественные нарративы, подчеркивающие сложность письменной фиксации воспоминаний. Акцент при этом делается на конкретных изображениях моментов прошлого, которые по тем или иным причинам вызывают сомнения в их достоверности, их связи с действительностью, а потому скорее соотносятся с забытым, нежели с воспоминаниями. Анализируются произведения Мэри Маккарти, Жоржа Перека, Дэйва Эггерса и Мартина Эмиса. Во многих случаях забывание очевидно, например когда авторы сами обращают внимание на пробелы в памяти. Здесь же Гудмундсдоттир обсуждает поиск авторами автобиографий дополнительных источников, прежде всего — обращение к семейным архивам, с целью восполнить пробелы. Исследовательница снова цитирует Манн, писавшую в мемуарах о том, как, разбирая семейный архив, столкнулась с «предательством фотографии»: «Фотография, казалось бы, сохраняет наше прошлое и делает его неуязвимым для искажений... но я думаю, что это заблуждение: фотографии вытесняют и искажают прошлое, все время создавая собственные воспоминания» (с. 157).
В следующей главе Гудмундсдоттир переходит к новым формам «самовыражения» — различным типам повествования о себе на страницах социальных сетей. Она затрагивает ряд вопросов, имеющих отношение к пониманию этих типов нарративов, например вопрос о взаимодействии изображения и текста и о том, как они показывают вмешательство новейших технологий в наши процессы памяти и приводят к опосредованности наших воспоминаний. Кроме того, автор отмечает ряд интересных моментов, связанных с этим типом жизнеописания. Во-первых, размещение текстов и фотографий в интернете — это один из способов превратить настоящее в прошлое: у человека возникает ощущение, что, после того как событие задокументировано, оно становится прошлым, каким бы недавним оно ни было. Во-вторых, предоставляя нам новые способы архивирования и запоминания, цифровые технологии подталкивают нас к переходу к тому, что Джефри Боукер называет потенциальной памятью. Социолог Пол Коннертон выразил эту же мысль так: «Сказать, что что-то было сохранено — в архиве, в компьютере, — это все равно, что сказать, что, хотя это в принципе всегда можно восстановить, мы можем позволить себе забыть об этом» (с. 71). Наконец, выкладывая свои истории в Сеть, мы понятия не имеем, кому их рассказываем и как и где они будут сохранены. Наша жизнь в киберпространстве развивается самостоятельно, и мы теряем контроль над тем, что должно быть зафиксировано надолго, а что — забыто.
Вторая часть книги посвящена социальным и политическим аспектам забывания в контексте коллективной памяти о страшных исторических событиях: Гражданской войне в Испании, нацистской оккупации Норвегии, Холокосте и иммиграции. В пятой главе рассматриваются дебаты о памяти, забвении и молчании, связанных с Гражданской войной, установлением режима Франко и последовавшими за ним репрессиями в Испании. Автор касается теоретических работ на эту тему и пробует прояснить роль художественной литературы в этих дебатах о забвении. Литературный отклик на этот дискурс исследуется на материале произведений Кармен Мартин Гайте, Хавьера Серкаса, Жауме Кабре и др. Пожалуй, самый впечатляющий из рассматриваемых здесь источников — книга журналистов Хесуса Торбадо и Мануэля Легвинече «Кроты» (1977), основанная на интервью с теми, кто был в бегах после Гражданской войны. Книга привлекла большое внимание в Испании и еще большее — в остальной Европе. Журналисты начали работу над ней после принятия законов об амнистии (1969), но понимали, что она не могла быть опубликована до смерти Франко. Каждая история из этого сборника показывает, насколько тяжело бывает нарушить закон молчания, ведь это значит посмотреть в лицо страху, травме, совести. Братья Хуан и Мануэль Идальго Испания из деревни Бенаке в провинции Малага сражались с республиканской армией всего несколько недель, а скрывались в течение двадцати восьми лет после окончания войны. Почти все это время они жили в одной деревне, но никогда не видели друг друга. Жены скрывали их, и жили они в невообразимых обстоятельствах, почти не видя дневного света, разговаривая шепотом. Дочь Мануэля долгое время не знала, кем является человек, спрятанный в их доме. Жена Хуана не решалась вешать мужскую одежду сушиться, поэтому он носил платья почти тридцать лет. Как и другие «кроты», братья неохотно рассказывали свои истории: воспоминания были для них очень тяжелыми. После публикации книги мнения людей по поводу ее уместности (или необходимости) разделились. Некоторые утверждали, что, копаясь в этих историях о тех, чьи жизни были разрушены во время диктатуры, авторы поставили под угрозу шаткое равновесие, возникшее после смерти Франко и сделавшее возможным переход к демократии. Так критики книги обосновывали необходимость забвения описанных событий, т.е. того, что историк Джей Уинтер «назвал бы политическим или стратегическим молчанием» (с. 97). Однако, по мнению Гудмундсдоттир, память не может быть подавлена или уничтожена навсегда даже диктатурами, как показывает история. И даже если жертвы предпочитают забыть о страшных событиях, общество должно их помнить.
Переходя к автобиографическому сочинению Кнута Гамсуна «По заросшим тропам» (1949), автор показывает, как спорное прошлое и спорные действия (писателя обвинили в поддержке нацистов) рассматриваются в его жизнеописании и как забывание становится центральным риторическим приемом в его отношениях с прошлым. В этой книге слышится голос человека, который борется не только с естественным забыванием в процессе старения, но и с общим консенсусом политики памяти относительно того, что следует помнить и забывать. Это — попытка представить собственную версию прошлого в извилистом, фрагментированном тексте. Гудмундсдоттир приводит наблюдение Сюзанны Маерз, что дискурс о прошлом развивался в Норвегии на протяжении десятилетий и каждое из них отличалось своим способом работы с прошлым. Так, для 1960-х было характерно сохранение простого, черно-белого образа прошлого, соответствующего мнению, что нужно забыть о периоде оккупации и прекратить любые спекуляции и расследования. Затем настало время пересмотреть этот образ. С 1990-х гг. и по сегодняшний день дискуссия набирает обороты, и не в последнюю очередь она касается обращения с евреями и «детьми войны» (детьми, рожденными норвежскими матерями и немецкими отцами), а призывы к моральной ответственности звучат все громче.
Далее Гудмундсдоттир исследует феномен неизвестного детям прошлого родителей — на материале произведений Лизы Аппиньянези и Линды Грант. Он связан с теориями забвения, травмы и молчания. Так, родители Грант бежали из родной страны и, как иммигранты, были разделены между двумя мирами. Говоря о матери, Грант подытоживает: «И именно потому, что она была настолько „разделена“, мы не могли доверять тому, что она говорила... поэтому память в нашей семье всегда была сложным делом» (с. 140). Грант считает это общим опытом иммигрантов вне зависимости от происхождения: «Все иммигрантские семьи такие... Все они должны сделать новую личность из прошлого, к которому у них больше нет доступа... И если ваша личная история недоступна, удивительно ли, что все, чем вы можете заниматься, — это изготовление мифов?» (с. 141). Как и в предыдущих главах, здесь показываются точки соприкосновения коллективной и частной памяти, но на этот раз они связаны с трудностями, обусловленными травмой и разделением поколений.
Заключительная глава посвящена использованию вспомогательных средств памяти, в первую очередь — фотографий в текстах (на материале работ Джеймса Эллроя и Салли Манн). Отношение фотографии к прошлому не является простым или легко объяснимым. Как писал Томас Дохерти в книге «После теории», фотография «ясно дала понять, что наблюдаемые явления не обязательно являются фактами, в которых мы можем быть уверены; и мир внезапно становится в некотором смысле вообще едва заметным, наделенным довольно мерцающей подвижностью, которую и обнаружила фотография» (с. 155). Завершается глава использованием различных метафор памяти в текстах жизнеописаний (память как море, фонарики, фрески, слои).
Как показывает книга Гудмундсдоттир, запоминание и забывание не являются взаимоисключающими. Память предполагает как запоминание, так и забывание, и последнее существует внутри первого «как дрожжи в тесте», по меткому замечанию историка психологии Доуве Драйсма (с. 1). Чтобы что-то вспомнить, это нужно забыть, забытое всегда уже является неотъемлемой частью памяти. Мы нуждаемся в памяти, в том числе коллективной, для того чтобы не забывать, что произошло с нами. Подобные воспоминания могут дать нам основу для отношений с прошлым и помочь двигаться дальше, но порой и забывание может быть способом выжить — как для личности, так и для общества. Решение о том, следует ли отдавать предпочтение памяти или забвению, зависит от исторического контекста и прежде всего — от культурных ценностей и общих обстоятельств, преобладающих в каждом конкретном случае.
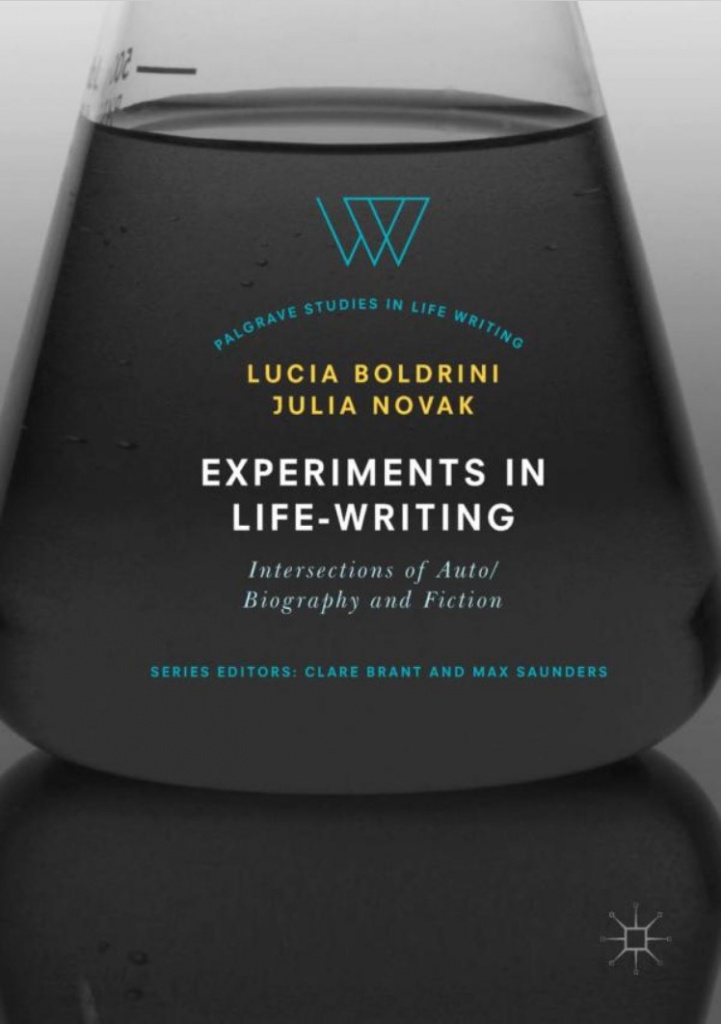
Сборник статей «Эксперименты в жизнеописании: точки соприкосновения (авто)биографии и художественной прозы» расширяет сферу исследований жизнеописания за счет рассмотрения его новых форм и приемов. Во Введении Ю. Новак объясняет обращение к этой тематике характерными для последних десятилетий «биографическим бумом» и «безумным увлечением мемуарами» (с. 1). Она также объясняет, почему редакторы-составители остановились на понятии «жизнеописание» (life-writing), включающем в себя «не только мемуары, автобиографию, биографию, дневники, автобиографическую и биографическую литературу, но и письма, завещания, показания, судебные разбирательства... лирические стихи, научные и исторические труды и цифровые формы» (там же). Такой широкий подход позволил включить в сферу рассмотрения максимально большое количество текстов, многие из которых ввиду специфики предмета, стиля автора, особенностей структуры текста и т.п. не могут быть отнесены к (авто)биографии, традиционно понимаемой как правдивое повествование о прожитой жизни. В сборнике рассматриваются такие примеры экспериментальных жизнеописаний, которые подрывают или ставят под сомнение устоявшиеся жанровые категории. Новак дает краткий обзор уровней, на которых проводились эксперименты в повествованиях, рассматриваемых в сборнике: предмет, жанрово-родовые признаки, стиль, структура и нарушение связности и логики повествования, интертекстуальность.
Сборник охватывает несколько национальных литератур (британскую, испанскую, итальянскую, австрийскую) и широкий спектр жизнеописаний — от (авто)биографических произведений до целого ряда промежуточных форм. В то время как большинство разбираемых текстов относятся к концу XX — началу XXI в., статья Макса Сондерса о книге Форда М. Форда позволяет взглянуть на описываемые эксперименты в диахронической перспективе. В составивших первую часть статьях Сондерса, Энди Уимбуш (о Б.С. Джонсоне) и Эвелин Килиан (о Кристин Брук-Роуз) исследуются нарративы, вдохновленные личными воспоминаниями и осложненные необычными импрессионистскими, саморефлексивными и интертекстуальными методами их авторов. Форд обыгрывает субъективность (авто)биографии и дает читателю понять, что знает о допущенных фактических ошибках и не заботится о них, так как они становятся гарантией точности другого рода — «истины впечатления» (с. 44). В произведении Б.С. Джонсона явно прослеживается влияние С. Беккета — через отголоски его характерных стилистических особенностей, прежде всего синтаксиса, тона и юмора, однако Уимбуш показывает, что «фирменные» цинизм и отчаяние Беккета оказываются в конечном счете непригодными для повествования о личном опыте Джонсона. Автобиографические романы Кристин Брук-Роуз являются яркими примерами экспериментального метода писательницы: она пишет в настоящем времени, избегает личных и притяжательных местоимений, ссылается на прошлые ипостаси «я» под разными именами и включает в текст теоретические размышления о жизни, памяти и идентичности. Тематика памяти во многом перекликается с тем, что рассматривалось в монографии Гудмундсдоттир. Так, Брук-Роуз отмечает, что память может изобретать воспоминания. Она также размышляет о разных метафорических описаниях памяти: поначалу возникает образ памяти как файла, затем он отклоняется, так как такое понимание не отражает восприимчивость памяти к чувственным впечатлениям и аффективную силу запоминаемого, его непредвиденность, непредсказуемость и изменчивость. На смену этому образу приходит сравнение памяти с расшифровкой. Писательница приходит к выводу, что нет такой текстовой формы, которая могла бы точно воспроизвести память, которая «уникальна, случайна и хрупка, как жизнь, и, как жизнь, умирает навсегда» (цит. с. 85).
Во второй части наблюдается переход от личной истории к коллективной. Пьетра Палаццоло в статье о мемуарах и стихах Джеки Кей, Гуннторунн Гудмундсдоттир в статье о Хорди Солере и Ванесса Ханнесшлагерв статье о пьесе Петера Хандке обсуждают вклад экспериментальных жизнеописаний в понимание культурной идентичности, национальной истории и политики. Палаццоло утверждает, что описание Джеки Кей истории ее «транскультурного» удочерения и экспериментальное использование автобиографических и поэтических (опирающихся на вымысел) повествовательных приемов обеспечивают свежий взгляд на концепцию многоуровневого «я», пронизывающую ее творчество. В мемуарах Кей «Красная пыльная дорога» (2010) главы о настоящем героини перемежаются главами о прошлом ее родителей, указывая тем самым на присутствие прошлого в настоящем. Эта книга представляет собой фрагменты диссонирующих версий одних и тех же событий (видение автора, ее биологических и приемных родителей и т.д.), свидетельствующих о том, что динамика памяти опирается не только на личное воспоминание, но и на признание пересказанных событий другими членами семьи/общины. Используя диалогический режим с его множественными голосами и точками зрения на ключевые события детства и юности, Кей показывает, что самоидентификация развивается во взаимодействии с другими, через акт повествования, который становится соповествованием (в терминологии Н. Норрика), представляющим собой воспоминание об общем опыте, которое устанавливает связи и строит групповую идентичность.
Солер принадлежит к поколению писателей, названному los nietos de la guerra — внуками войны (с. 128); они задаются вопросами об опыте своей семьи во время Гражданской войны в Испании и о том, что этот опыт значит для них самих. Солер прибегает к тропам магического реализма и народных сказок, что помогает ему разобраться в запутанной личной и национальной истории. Хандке описывает страницы истории Австрии, а именно — каринтийского сопротивления национал-социалистической оккупации. Готовясь к написанию этого текста, Хандке читал не только личные письма членов своей семьи, но и книги, содержащие воспоминания словенских партизан. Он подготовил большой сборник цитат и фраз из этих книг и вложил их в уста персонажей, прообразами которых были его родные. Кроме того, он пытался найти форму, соответствующую этой истории. Его подход заключался в слиянии нескольких систем: шекспировского театра, классической трагедии и эпического театра Брехта: только благодаря этому синкретизму текст мог достичь этической цели, которой был посвящен: вдохновить людей на мирную жизнь.
В третьей части рассматриваются тексты, сочетающиеся с другими медиа, такими как фотография и кино. Антонио Лунарди исследует работы Лаллы Романо, состоящие из серии фотографий — ее самой, родителей, мест, где она выросла, — сделанных, как правило, ее отцом и снабженных ее комментариями. Лунарди приходит к выводу, что комментарии Романо порождают два типа взаимодействия — между вербальным текстом и изображением и между взглядом читателя и взглядом автора на фотографии, а также что свободные отношения между словом и образом требуют от читателя активно участвовать в повествовании и завершить его. Мария А. Диас использует кинематографическую ссылку в автобиографическом романе Хавьера Мариаса (на диснеевский мультфильм «Три кабальеро») как объектив, через который можно наблюдать за размышлениями автора о пересечениях между биографией, автобиографией и вымыслом, между жизнью и смертью.
Особый интерес представляет последняя, четвертая часть. Практикующие биографы Уилл Слокомб, Урсула Хёрли и Дженис Галлоуэй рассказывают о своих недавних (в том числе незавершенных) экспериментальных работах, рассуждают об ответственности биографа перед изображаемым человеком, о трудностях поиска подходящей формы. Они размышляют о недостатках тех или иных типов повествования, невозможности найти издателя и непростых компромиссах, которые коммерческие издательства требуют от писателей-экспериментаторов. Слокомб описывает два пересекающихся проекта жизнеописания, связанных с историей психиатрии (биографии пациента Уильяма Р. Тучета и влиятельного психиатра Изабель Уилсон). Писатель указывает на связи между психологической проекцией и актами интерпретации и размышляет о том, как персонажи биографии оказываются лишь «частичными» репрезентациями реальных исторических персонажей. Кроме того, Слокомб показывает, как в биографии может использоваться поэзия; он обсуждает свое стихотворение «Чужое удовольствие» как пример монтажа, в котором опыт и впечатления преступника XIX в., отправленного не на виселицу, а в психиатрическую больницу, сопоставляются с псевдомедицинскими обсуждениями его помещения туда.
Если статья Слокомба носит скорее философско-теоретический характер, то статья Хёрли является примером эмоциональной погруженности писателя в свой предмет и стремления заразить своим интересом читателя. Она объясняет, как обращение к экспериментальной форме привело ее к более «правдивому» способу представления экстраординарной жизни Элизабет Кэри, виконтессы Фолкленд, первой английской женщины-драматурга. Свой подход она описала так: «Случайно или по велению судьбы мы встречаем кого-то, кто существует как текст, в исторических зарисовках, немного влюбляемся в него, и биографический договор заключен... Это не шаблонный акт составления профессиональной биографии, а скорее результат работы всей жизни, поиск другого человека, который жил, и дышал, и любил, и терял, как и все мы. Я хочу, чтобы читатель был включен в это. Мог разделить странность моей жизни, на которую так сильно повлияла ее жизнь. Я не могу испытать все это, а затем представить объективно звучащую биографию, которая не упоминает об этом. И, объясняя, почему Кэри важна для меня, я пытаюсь сделать Кэри важной для других» (с. 255–256). Именно поэтому биография Кэри одновременно становится и автобиографией Хёрли. Биограф пишет: читатели «должны увидеть ее „моими“ глазами, стать свидетелями ее важности для автобиографического рассказчика и тех нитей, которые все еще связывают нас — сильнее времени, сильнее смерти. Мы стали симбиозом... Становясь частью современного автобиографического текста, она менее удалена. Она живет в моем повествовании...» (с. 257). Таким образом, эксперимент с формой, заключающийся в слиянии исторического исследования, элементов вымысла и автобиографического описания моментов жизни, связанных с работой над биографией и эмоциональным откликом на эту работу, позволяет биографу в какой-то степени приблизиться к опыту другого «я».
В интервью Галлоуэй о ее биографическом романе «Клара» (2002, посвящен пианистке XIX в. Кларе Шуман) в первую очередь затрагиваются вопросы о положении женщины в исторической перспективе и о том, как представительницам слабого пола приходилось противостоять сложившейся гендерной системе. Кроме того, биограф говорит о своем желании оставить больше пространства для сотворчества читателям: «Это не должно быть авторитетным суждением, это не должно быть уроком про Клару Шуман. Я бы никогда не принялась за работу с какой-то целью, воспитательной целью, кроме одной-единственной: „Возьмите эти кусочки и сделайте это сами! Это „Лего“! Проявите творческий подход!“» (с. 281).
Литературовед Сушейла Наста утверждает, что жизнеописание является «гибридным средством», которое «может растягивать и изменять часто неустойчивые границы между жанрами, исследовать вопросы субъективности и открывать символические границы новых или ранее оспариваемых моментов национальных историй» (с. 106). Рассматриваемые в этом сборнике художественные тексты отходят от принципов традиционной (авто)биографии, и их анализ отражает взаимосвязь между фактом и вымыслом и отношения между пишущим и описываемым субъектами, которые эти тексты перестраивают. Объединяет все эти работы то, что является одним из определяющих признаков литературных экспериментов в целом, — «обязательство поднимать фундаментальные вопросы о самой природе и сущности искусства слова» (с. 3), вопросы, которые литературный мейнстрим, наоборот, старается всячески замять.

Третья книга в нашем обзоре — сборник статей «Автофикшн на английском». Слово «автофикшн» было придумано французским писателем и теоретиком литературы Сержем Дубровским для описания собственных произведений. Оно составлено из двух элементов: «auto» и «fiction», и его во многом оксюморонную природу можно передать в таких вариантах перевода, как «автобиографический роман», «романизированная автобиография» или «вымышленная автобиография», однако в российском научном языке уже закрепился вариант «автофикшн», которого мы и будем придерживаться[1]. Прежде считалось, что произведения такого рода характерны лишь для франкоязычной литературы, однако авторы сборника идентифицируют и анализируют примеры автофикшн на английском языке.
Во Введении, написанном составителем сборника Хайвелом Диксом, и в первой части сборника (статьях Карен Феррейра-Мейерс, Лорны Мартенс и Мег Дженсен) основное внимание уделяется теоретическим аспектам автофикшн. Дубровский постоянно обновлял и уточнял свое понимание термина: существуют как минимум три разных способа, которыми он определял автофикшн на разных этапах своей карьеры. Первоначальный вариант (на задней обложке его романа «Сын») гласил: «Вымысел исключительно реальных событий» (с. 2). Это было весьма размытое определение, так как под такую категорию потенциально подпадало большое количество разнообразных текстов. Затем Дубровский попытался дать новое определение — на стилистической основе, назвав ключевым элементом подобных произведений «реконфигурацию повествовательного времени», уход от линейных, последовательных, хронологических временных рамок, интерес к экспериментам со временем, использование свободной причинности и открытого символизма, которые делают смысл непрозрачным и неуловимым. Дубровский писал: «Если отказаться от хронологически-логического дискурса в пользу поэтических блужданий языка, где слова имеют приоритет над вещами и даже принимают себя за вещи, то чаша весов склоняется против реалистического повествования в пользу вымышленной вселенной» (с. 51). Еще одно определение автофикшн строилось на социологической основе. Считая примером классической автобиографии «Исповедь» Руссо, он рассудил, что не был достаточно известен широкой публике и не занимал достаточно высокого положения, чтобы писать автобиографию. Традиционная форма автобиографии была социально недоступной из-за низкого статуса автора, и решением этой проблемы стал автофикшн.
Другим видным теоретиком автофикшн является Винсент Колонна, который считает, что автофикшн «включает в себя все процессы самоолитературивания, когда автор изобретает собственное существование, проецируя себя в воображаемых персонажах (главным образом через повествование от первого лица) ради достижения катарсиса» (с. 29). Единой точки зрения на этот феномен нет, и даже авторы рассматриваемого сборника используют разные его дефиниции, например определение Генрика Скова Нильсена: «Роман, названный вымыслом, главный герой которого носит то же имя, что и автор» (с. 223). А по мнению французской писательницы Катрин Кюссе, авторы подобных текстов заключают договор с собой — не врать и не изобретать ради изобретения, но только ради того, чтобы быть максимально честным в поисках истины. Поскольку в текстах этого нового типа автобиографический пакт невозможен, то возникает новый пакт: читатель знает, что автор не честен, а искренен — он будет лгать, но попытается при этом отразить мир со всей справедливостью. Кроме того, Кюссе считает, что автофикшн требует «способности вернуться внутрь эмоции... чтобы предложить ее читателю в голой форме, лишенной чего-либо слишком своеобразного, чтобы он мог претендовать на нее как на свою собственную. Когда писатель достигает достаточно глубокого уровня эмоции, это становится эмоцией каждого — чем-то универсальным» (с. 67).
По словам Дикса, основные причины возникновения исследований автофикшн на английском языке — повышение статуса текстов авторов-женщин, изменение характера издательской индустрии (включая появление самоиздания) и насыщение печатных и вещательных СМИ так называемыми нарративами о «реальных» событиях. Каждая из этих тенденций внесла вклад в изменение и усложнение понимания того, что объединяется универсальным термином «жизнеописание». Кроме того, все они так или иначе связаны с изменением отношения к культурной легитимности, с оспариванием существующих определений того, что представляет собой «узаконенная» литературная форма.
Во второй части сборника исследуется, как автофикшн может использоваться для описания и переработки травмирующих событий и переживаний. Лиза Шеппард на материале произведений Шарлотты Уильямс и Джеки Кей рассматривает вопросы принятия и исследования смешанной этнической идентичности и проблемы связанного с ней культурного наследия. Ольга Майкл, анализируя графические мемуары Линды Барри и Фиби Глокнер, показывает, как опыт жестокого обращения и сексуального насилия в семье, не поддающийся адекватному выражению посредством языка, может быть представлен в визуально-графической форме, и приходит к выводу, что рассматриваемые авторы пытаются «сделать видимым то, что обычно скрыто, чтобы озвучить то, что общество предпочло бы оставить невысказанным о взрослении девушки в конце XX в. в Северной Америке» (с. 119). Графические формы автофикшн, по ее мнению, помогают не только воссоздать прошлое, чтобы пролить свет на тайные, травмирующие аспекты жизни женщин и девочек, но и преодолеть их эффект. Грэм Дж. Мэтьюз рассматривает особую форму нарративов о болезни, в которых пациент обретает голос и смещает акцент с медицинского изучения тела и болезни на собственные переживания, тем самым делая опыт страдания узнаваемым для других и способствуя созданию особых сообществ, которые иначе никак не были связаны. Отдельного упоминания заслуживает революционная форма представления подобных историй, которая была использована в произведении Билла Т. Джонса «Все еще/здесь» («Still/Here», 1994) — двухактной хореографической постановке, которая содержит в себе визуальный ряд, состоящий из отредактированных интервью с неизлечимо больными людьми. Эта работа вызвала много споров: так, танцевальный критик «Нью-Йоркера» Арлин Кроче не стала ее смотреть, заявив, что, «работая с умирающими людьми в своем произведении, Джонс ставит себя вне досягаемости критики» (с. 135). Сара Ф. Винсон анализирует книгу Тима О’Брайена «Что они несли с собой» (1990), посвященную войне во Вьетнаме. Сам автор так описывал свой метод: работа над книгой «провела меня через водоворот воспоминаний, которые в противном случае могли бы закончиться параличом или еще хуже. Рассказывая истории, ты объективируешь свой опыт. Ты отделяешь его от себя. Фиксируешь определенные истины. Придумываешь другие. ...Изобретая события, которые на самом деле не происходили, но которые тем не менее помогают прояснить, объяснить» (с. 154). Иначе говоря, пусть автофикшн и отличается той или иной степенью сконструированности, он все же может помочь понять себя и свою историю.
Авторы третьей части подхватывают тему статьи Винсон и рассматривают значение теории автофикшн для творческой практики. Рикарда Менн, сосредоточившись на нескольких книгах Джона Бернсайда, показывает, что одна и та же жизнь может быть рассказана разными способами, отличными от обычного автобиографического письма. Поскольку произведения Бернсайда в жанре автофикшн содержат те же мотивы, что и его художественные произведения, становится ясно, что границы между фактуальностью и вымышленностью в текстах писателя деконструированы. Селия Хант исследует автофикшн как рефлексивный способ мышления и пишет о его значении для развития личности будущих писателей. Анализируя произведения Дубровского, она приходит к выводу, что ключ к терапевтической пользе автофикшн — умение быть собой в процессе написания книги. Это подразумевает гибкое автобиографическое «я», оставляющее место воображению: автор ослабляет когнитивный контроль над процессом письма, позволяя неожиданным мыслям и чувствам появляться на странице и приносить новое знание о себе. Амелия Уокер оценивает потенциал методик автофикшн для совершенствования образовательной практики в университете и предлагает следующие стратегии. Во-первых, студенты должны быть осведомлены о доминирующих нарративных моделях и об их опасностях, чтобы не повторять привычно существующие нормы, принятые как в литературе, так и в жизни. Во-вторых, их следует знакомить с работами в жанре автофикшн, отличающимися фрагментированностью, нелинейностью, метатекстуальностью, т.е. с примерами переработки доминирующих моделей и выхода за их пределы. В-третьих, нужно знакомить учеников и с работами, которые не принадлежат к автофикшн, но используют те же приемы. В-четвертых, нужно объяснять, что эти нарративные техники предназначены для того, чтобы подвергать сомнению признанные истины и, тем самым, расширять возможности писателей в плане познания себя и мира. Наконец, необходимо знакомить студентов с теоретическими работами по автофикшн (Дубровского и других авторов), в которых исследуются проблемы истины, идентичности и т.д.
Один из вопросов, занимающих авторов сборника, касается связи автофикшн как ресурса критического мышления с наступлением эпохи «после постмодернизма». Так, в четвертой части Тодд Уомбл размышляет о том, можно ли причислить произведения Филипа Рота, Пола Остера и Брета Истона Эллиса к автофикшн, а Алекс Белси анализирует роль вымысла в романе Уилла Селфа. Бран Николь рассматривает американский автофикшн в мировом контексте и выделяет две отличающие его черты: фокусировка на скандале и полемика вокруг авторства. Автофикшн в Америке лучше рассматривать не столько как форму, исследующую сложные механизмы работы памяти и их влияние на субъективность, сколько как свидетельство озабоченности условиями авторства, особенно институциональными, что характерно для американской словесности в конце XX — начале XXI в. Кроме того, если французские авторы посвящают свое творчество поиску (невозможной) истины, то англоязычные стремятся скорее к построению себя в тексте.
Как следует из статей сборника в целом, автофикшн как более демократичная, открытая форма описания собственной жизни позволяет автору представить себя любым выбранным способом и, тем самым, достичь более глубокого чувства самости и идентичности. Допустимость вымысла в этой форме повествования потенциально подразумевает плюралистическое восприятие «я». Ускользая от единственно верного понимания смысла, повествующий субъект все больше ускользает от фиксированных концепций истины, увеличивая потенциал самоупорядочивания в процессе творчества. А все рассмотренные в трех книгах формы жизнеописания объединяет то, что Линда Хатчеон обнаружила в «историографических метатекстах»: в них «открыто утверждается, что есть только истины во множественном числе и никогда не существует одной-единственной истины; и редко бывает фальшь как таковая — просто чужие истины» (цит. по сборнику «Эксперименты в жизнеописании», с. 128).
[1] См., например: Левина-Паркер М. Введение в самосочинение: autofiction // НЛО. 2010. № 103. С. 12–40.
Вернуться назад