Татьяна Венедиктова
Русская провинциальность в контекстах глобализации
06 июля 2020
Lounsbery A. Life Is Elsewhere: Symbolic Geography in the Russian Provinces, 1800—1917.
Ithaca; L.: Northern Illinois University Press, 2019. — 344 p.
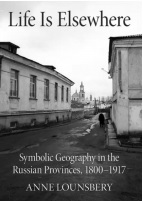
Российское «провинциаловедение» возникло недавно и за десяток лет успело превратиться в своего рода индустрию: на почве изучения «региональных» и «локальных» текстов сотрудничают лингвисты и литературоведы, фольклористы, культурологи, антропологи и историки [1]. До сих пор, однако, эта работа была большей частью связана с собиранием и описанием, а ее методологические ориентиры и широкий (национальный и транснациональный) контекст обсуждались явно недостаточно. На этом фоне книга американской славистки Энн Лаунсбери «Жизнь— не здесь: символическая география русской провинции 1800—1917 гг.» примечательна не столько обилием и оригинальностью собранного материала, сколько попыткой сгенерировать его целостное, авторское видение. Предметом осмысления является корпус литературных высказываний о русской провинции; история «нехудожественного» краеведения также затрагивается, но лишь отчасти и попутно: с точки зрения Лаунсбери, это принципиально другой дискурс, определяемый приоритетом познавательной задачи над творческой. В данном же случае «провинция» рассматривается как троп, «изобретенный» в 1830-х гг., а свою «окончательную» форму явивший под конец столетия, в творчестве Салтыкова-Щедрина и Ф. Сологуба. В промежутке не было, кажется, такого русского писателя — во всем диапазоне от «великих» (Пушкин, Гоголь, Гончаров, Тургенев, Толстой, Достоевский, Чехов) до «второстепенных» или почти забытых (Рылеев, Загоскин, Даль, Ган, Жукова, Хвощинская), — кто не отдал бы дань провинциальной теме.
Слово «провинция» проникло в русский язык из польского в петровское время как обозначение административной единицы. В этом качестве его вскоре заменило слово «губерния», а вот референция к местному образу и способу жизни, напротив, вышла на первый план. В целом возникновение понятия провинциальности, как отмечает Лаунсбери, связано со становлением новых форм управления, экономического обмена и культурного потребления. Фетиш современности — прогресс, мотор прогресса — коммуникация, узлы коммуникации — столичные города; социальная и культурная жизнь за их пределами представляется под знаком недостаточности, отсталости, косности.
Проблема, разумеется, не уникальна для России и русского культурного воображения, хотя не везде она в равной степени выражена. Во Франции XIX в. Жюльены Сорели, Люсьены де Рюбампре и Эммы Бовари отчаянно рвались в Париж, связывая с ним и только с ним возможность самореализации, полноценной жизни. Но, например, английские писательницы-провинциалки того же времени — Джейн Остен, сестры Бронте, Джордж Элиот — не переживали отдаленность от Лондона как приговор судьбы. Что до культурного пространства Северной Америки, то оно изначально воспринималось как децентрализованное [2], и там в XIX в. была актуальна скорее дифференциация большого города, городка и фронтира, а это не то же самое, что противопоставление столицы и провинции. Комплекс провинциальности в русской культуре более всего похож на французский, с той разницей, что во Франции подняться выше Парижа (monter à Paris), неколебимо уверенного в своей «всемирной» центральности, просто некуда, а Москва и Петербург тайно и явно сомневаются в своих столичных претензиях, болезненно сравнивают себя с Европой, то отталкиваясь от нее, то подражая ей.
Провинциальный комплекс историчен. Например, у Пушкина, как отмечает Лаунсбери, он еще отсутствует. «Глушь», где располагается поместье Лариных, — гармоничная пастораль, в своем простодушии и не думающая завидовать столицам. Уездный город — также пространство милой, домашней, слегка комичной «русскости». О «почтенном замке», куда Онегин приезжает из модного Петербурга, сказано, что он отмечен «вкусом умной старины», это мир старомодный, но самодостаточный. Подражательностью отмечено скорее поведение столичного гостя, Онегина, но и в ней нет усилия соответствовать чужой норме, а есть своеобразный шик, и поэтому ее не спутаешь с провинциальной вторичностью. И такова же Татьяна, искренняя даже и при явно заимствованной сентиментальности, русская в своей иностранности. Провинциализма вообще не найти «в деревне» — ни в крестьянах, ни в родовитых барах, чей быт теснее связан со столичной «цивилизацией», чем с соседствующим социальным пространством (ср. выразительное название «журнала красивой жизни», популярного на рубеже XIX—XX вв., — «Столица и усадьба»). Позднее у Толстого Ростовы и Болконские, Левины и Облонские воспринимают родовые поместья как милый сердцу «дом», в укладе которого неощутимы отчужденность и ограниченность, характеризующие провинцию. Возвращаясь к Пушкину — можно ли считать провинцией «симбирскую деревню», пространство обитания Гриневых в «Капитанской дочке»? Едва ли: символический статус места в этих терминах не обсуждается, да и вообще мало кому интересен (ср. бессмысленность географической карты, выписанной для Петруши из Москвы и употребленной на изготовление бумажного змея [3]). Пустота степи, где развертывается дальнейшее действие, не картографировано и населено «экзотическими» народами, среди которых этнически ближайшие — казаки — особенно ненадежны, поскольку могут оказаться как охранителями границ, так и предателями, — но как быть верным государству, которое само не уверено в своих границах? Перед нами — русский «фронтир», которому лишь со временем и по мере освоения властью суждено превратиться в безнадежно скучную, обездвиженную «провинцию».
Только в 1830-х гг. в русской прозе начинает разрабатываться тема убийственной рутинности существования в губернских и уездных городках. Места эти, независимо от их расположения, далеки отовсюду (и от центра, и от какого бы то ни было края: «хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь»), безлики и анонимны. Названия как бы и не служат именами собственными, воспринимаются как чисто условные значки: «какой-нибудь Весьегонск», мелькающий в мыслях Чичикова, ничем не отличается от «города Б.» или «города N», упоминаемых в других сочинениях Гоголя, и к такому же не-месту отсылают рассуждения чеховского доктора Астрова о жизни «в Харькове или где-нибудь в Курске». Если не жить в столице, то, в сущности, все равно где жить. И все равно когда. У провинции нет истории, она существует во вневременной «дыре», где ничто не меняется, а разве лишь начинается с нуля — образом самым безнадежным и ничего не обещающим: «…Известно, что наши губернские города горят каждые пять лет», — замечает Тургенев в «Отцах и детях». Провинция сонна и материальна, здесь слишком много вещей и остро недостает смысла. Мучаясь ночью без сна, молодой следователь Лыжин, заехавший в глушь «по делам службы» в одноименном рассказе Чехова, думает: «Родина, настоящая Россия — это Москва, Петербург, а здесь провинция, колония». «Колониальный» быт — не жизнь вовсе, а лишенные смысла «формы», «клочки», обрывки жизни — полная противоположность идеальнокультурной столичной среде, маячащей в мечтах: там «ничто не случайно, все осмысленно». Сходным образом оппозицию формулирует у Достоевского провинциальный карьерист Лужин: «Все эти наши новости, реформы, идеи — все это и до нас прикоснулось в провинции, но, чтобы видеть яснее и видеть все, надобно быть в Петербурге». В обоих случаях позиция персонажа неотождествима с позицией автора, но, кажется, и не противоположна ей.
Гоголь интересует Энн Лаунсбери как главный «теоретик» русской провинции (с. 96). В воображенном им мире две России живут, как зачарованные, вперившись друг в друга: взглядом ревизорским, критическим — со стороны столиц и взглядом завистливым, заискивающим — со стороны провинций, которые как будто зависимы в своем существовании от того, увидят их или не увидят «из центра». В «Избранных местах» автор учит гуманную губернаторшу, как правильно смотреть на провинциальный город: «как доктор глядит на лазарет» и, одновременно, как если бы больные и калечные обитатели лазарета были все ее родными и близкими людьми. Столь сложный оптический кунштюк должен иметь предполагаемым результатом спасительное примирение с действительностью.
Комплекс провинциальности перерабатывается у Гоголя глубоко и трудно, в том числе и на уровне стиля. Стиль этот странен и неловок, в нем нет пушкинской свободы и гармонии. То и дело мешаются на откровенно провинциальный манер (т.е. без всякой меры и пропорции) сущностное и сиюминутное, эфемерное и постоянное, и провоцирующую силу этих трагикомических парадоксов читатель хорошо чувствует. Читая «Мертвые души», «мы не можем в точности определить свое отношение к диссонансам провинциальности, которые проявляются как в изображаемых объектах, так и в языке, их изображающем» (с. 99), и в итоге прочитываем-переживаем неполноценность провинциальной жизни как собственную проблему, источник личного страдания.
Символическая география Гоголя «не позволяет нам вообразить, что жизнь могла бы быть лучшей в каком-то другом реальном месте, будь то Петербург, Москва, Париж или иной город» (с. 209). Провинция оказывается бесконечно растяжима и в своих масштабах, и в своих значениях — именно такое, почти метафизическое понятие Гоголь оставляет в наследство будущим русским писателям и читателям — как ценный ресурс для дальнейшей разработки.
Столичная жизнь отличается от провинциальной изобилием и многообразием, в ней есть возможность сравнения и выбора, а значит, может выработаться «правильный вкус» — критерий и залог универсальности суждения. В провинции человек остается рабом мелочности, случайности, убогой эклектики. Это измерение базовой оппозиции исследуется в главе, посвященной «Обыкновенной истории» Гончарова. Столичная жизнь, побуждая «идти в ногу с веком», заставляет Александра Адуева расстаться с провинциальной иллюзией уникальности собственной и любой вообще жизненной ситуации. В столице все ситуации повторяемы, все сравнимо и все обмениваемо, притом и обмен, и выбор опираются на разумный расчет. Жизнь современного большого города демонстрирует нерасторжимую связь больших масштабов и статистического усреднения, стандартизации. Следуя предписаниям дяди, Адуева-старшего, Александр превращается в обыкновенного человека, успешного и несчастливого, каких много в Петербурге. И если в художественном решении Гончарова не чувствуется однозначности, то об интерпретации романа Белинским этого сказать нельзя. Лаунсбери разбирает статью «Ничто о ничем» (1836) — «отчет» о состоянии русской литературы, в котором слово «провинция» используется 55 раз (речь идет о провинциальном журнале, провинциальном читателе, провинциальной фантазии, провинциальном остроумии и т.д.). Кто такой провинциал в глазах критика? Это человек, не имеющий ни опыта сравнения, ни достойных критериев, — лишенный, соответственно, «чувства изящного». Между тем последнее исключительно важно — как «условие человеческого достоинства», способности возвышаться «до мировых идей» и понимать «природу и явления в их общности» [4]. Эти воспитательные идеи Белинского, программно враждебные провинциализму, Энн Лаунсбери довольно неожиданно связывает с представлениями позднейшего англоязычного критика, не менее авторитетного, чем наш Белинский, и тоже, кстати, провинциала по рождению.
В 1944 г. Т.С. Элиот произнес речь на тему «Что такое классик?» перед членами Общества Вергилия при кафедре латыни Лондонского университета — ему 65 лет, он подданный Британии и не склонен даже вспоминать заштатный Сент-Луис, штат Миссури, который в годы детства и отрочества поэта отчаянно боролся за статус Большого Города, оглядываясь на Чикаго. Провинциализм, по мнению Элиота, — это искажение ценностей, происходящее «оттого, что стандартами, приобретенными в ограниченной области, меряют весь человеческий опыт» [5]. Лучшее лекарство от провинциализма — последовательная ориентация на универсальную классическую меру. К логике этого противопоставления Лаунсбери возвращается в своей книге не раз, обозначая скрытую в ней ловушку. Классичность, в трактовке Элиота, соединяет в себе такие достоинства, как зрелость, равновесие, гармония, стабильность и законченность: классиком считается писатель, который исчерпывает навсегда какую-то возможность языка и оставляет потомкам на одну возможность меньше. Лучший классик — не только мертвый, но и пишущий на мертвом языке, каков и есть Вергилий! Получается, что классичность и творческий поиск, чуткость к еще не раскрытым возможностям современности трудносовместимы, если не исключают друг друга вовсе. Но, с другой стороны, получается, что провинциальная недостаточность заключает в себе потенциал движения и тем ценна.
Возвращаясь к русской литературной истории, мы обнаруживаем в творчестве Тургенева дальнейшие примеры расширения и усложнения образа провинциала. Первым приходит на память убийственный образ Авдотьи Никитишны Кукшиной, в которой соединяются развязность и неловкость, беспорядочность и фатальное отсутствие вкуса. Но таковы в чем-то и благородные «экспаты» (например, из «Дыма»): они решительно во всем не чета Кукшиной, но тоже мучаются неприкаянностью, непринадлежностью к истории, времени и месту. Вообще русские люди в культуре чувствуют себя неуютно — не воспринимают ее авторитетный канон как «свой», а себя, напротив, неустанно попрекают недостатком «собственного», «особенного» и, опять-таки, «своего» («Гамлет Щигровского уезда»). Но в целом, если сравнивать мужской и дамский варианты «русской провинциальной судьбы», то именно за вторым придется признать беспримесную образцовость. В литературных характеристиках провинции, по наблюдениям Лаунсбери, постоянно проглядывает женоподобная слабость, а женщина-провинциалка как бы дважды маргинальна. Жизнь ее заведомо несерьезна, лишена «универсальности», отдана мелочам и тщетной борьбе с ними (популярный сюжет женской «провинциальной истории», рассматриваемой в седьмой главе книги).
В восьмой главе автор ставит (на примере творчества Мельникова-Печерского и Лескова) вопрос: была ли в России региональная литература? Ответ: в той мере, в какой была, она питалась не столько интересом к местному своеобычию, сколько усилием увидеть в конкретной местности метонимию России в целом. Регионализм как литературное направление, как правило, служит сохранению памяти о явлениях культуры, исчезающих под действием исторических сил. В частности, расцвет регионализма в американской литературе после Гражданской войны ассоциировал местную специфику с живописностью на глазах исчезающего прошлого. У ностальгической эмоции была неочевидная социальная функция: дистанцирование от настоящего должно было облегчить примирение расколотой нации. Мельников видел российскую ситуацию в каком-то смысле честнее, заключает Лаунсбери: он прямее глядел в лицо тому факту, что письмо, запечатлевающее уходящую общинную жизнь староверов, фактически служило уничтожению этой жизни (с. 175).
Обращаясь к творчеству Чехова, автор ставит тот же вопрос, что был центральным в главе о Гоголе: чеховская провинция — это именно и «только» провинция или что-то другое? Чехов не только был провинциалом по рождению, но и много ездил по «глубинке», был озабочен жизнью земских институтов; никто не мог бы сказать о нем, как о Гоголе, что он, по-настоящему, ничего не знал о русской жизни. Провинция в чеховском изображении конкретна, богата оттенками, однако и здесь ощутима инерция мощного культурного мифа. Считать ли образ палаты номер шесть образом России или вообще человеческого существования? Думая так, мы неизбежно солидаризируемся с доктором Рагиным, который не видит разницы между своей убогой больницей и лучшей венецианской клиникой, между провинциальным прозябанием и жизнью философа в Древней Греции. Разница, разумеется, есть, вот только всякое напоминание о ней обнаруживает привкус скептической иронии. В «Вишневом саде» столица упоминается в ряду с Киевом, Ярославлем и Харьковом, которые все вместе противопоставляются Парижу, при этом жалобы на провинциальное «невежество» и «варварство» звучат из уст гротескно ограниченных персонажей. В других произведениях на месте мечты о столичности как о спасительной альтернативе возникает мысль о всеобщей связи, «невидимой, но значительной и необходимой», которая обнаруживается не в результате перемены мест, а по ходу трудной внутренней перестройки (ср. размышления следователя Лыжина в цитированном выше рассказе; они, впрочем, не ведут ни к какому изменению жизненного поведения или статуса персонажа).
В Заключении Лаунсбери предпринимает попытку взглянуть на материал предыдущих одиннадцати глав с позиций дня сегодняшнего. Двадцатое столетие как будто бы ничем особенным не обогатило доставшееся ему наследство. После небольшой интерлюдии Серебряного века, который переоткрыл русскую провинцию как эстетский заповедник старины, возобновляется господство централистской идеи: «Начинается земля, как известно, от Кремля». В 1930—1950-х гг. предпринимались попытки искоренить мрачное слово «провинция», компенсировать удаленность от центра комсомольским энтузиазмом, но ассоциация с отлученностью от реального времени, от современной истории сохранялась.
Осталось неизменным, с точки зрения Лаунсбери, и другое важное обстоятельство: Россия никогда не верила всерьез в центральность собственного центра, во всяком случае в его светски-бюрократической ипостаси. Троп провинции, столь живучий в русской литературе, исключает ясную географическую приписку и траекторию исторического движения, подразумевая эклектическое сосуществование временных пластов и типов отношений. В провинции царят одновременность и асинхронность, здесь безмятежно соседствует несовместное и все может случиться в любой момент («В десять лет внутри России столько совершается событий, сколько в другом государстве не совершится в полвека», — печально, но не без гордости констатировал Гоголь). Отсюда — образ не-Европы и не-Азии, не первого мира и не третьего, страны христианской, но на незападный манер, то ли вечно отстающей, то ли вечно забегающей вперед. Считать ли эти парадоксы симптомом бесплодия или плодовитой синкретичности культуры? В конце концов, именно через ее (культуры) неоднородность, гибридность, хаотическое смешение элементов в жизнь входит новое, и в предощущении этой возможности Николай Гоголь оказывается неожиданно родствен Салману Рушди. Отсюда вопрос: не является ли «русская провинция» как предмет литературной разработки своего рода «лабораторией для исследований того культурного состояния, которое было диагностировано Чаадаевым (или возникло отчасти в результате поставленного им диагноза)» (с. 254)? А сам знаменитый диагноз, указывавший на подражательность русской культуры и в то же время активность генерирования в ней нового (притом не из «прежних идей», а «неизвестно откуда» [6]), — считать ли приговором или скорее обнадеживающим инсайтом?
Миф о провинции, как всякий миф, легко выворачивается наизнанку. Печальное убожество скитаний по России привело Андрея Платонова к странной мысли: «…мне кажется — настоящее искусство, настоящая мысль только и могут рождаться в таком захолустье…» (из письма от 13 февраля 1927 г. из Тамбова) [7]. Другой Андрей — Синявский — почти повторит: «Провинция — в крови искусства — искусство в принципе провинциально, сохраняя за собою наивный, сторонний, удивленный и завистливый взгляд». Свежее поэтическое осознание мира невозможно из центра, чтобы обрести его, важно «для начала… растеряться, предстать новичком, эмигрантом, провинциалом в своей стране» [8].
Финальный вопрос, формулируемый Энн Лаунсбери, таков: не потому ли в современных концепциях глобальной литературы не находится места русской традиции (именно как традиции, а не как некоторому числу отдельно стоящих шедевров), что она расположилась вне магистрального пути развития? Путь этот определяется лидерством Запада, бесспорным, но не беспроблемным. Все мы более или менее понимаем, что силе рыночных механизмов противостоит сила «продуктивного культурного синкретизма» (с. 254), но не умеем пока даже описать это неявное соперничество, ни тем более оценить его возможные перспективы: иссякнет ли оно в будущем? Или, напротив, усугубится?
Очевидно, что в контексте широко понятой «современности» провинциальность — одновременно социальная стигма и эстетический ресурс. Плодотворность дальнейших размышлений о ней зависит от того, ассоциировать ли эстетическое с заповедником классических образцов или, как было сказано выше, с лабораторией по экспериментальному исследованию культурных и социальных возможностей.
[1] Ср., например, сборники статей: Русская провинция: миф — текст — реальность / Сост. А.Ф. Белоусов, Т.В. Цивьян. М.; СПб., 2000; Провинция как реальность и объект осмысления / Сост. А.Ф. Белоусов, М.В. Строганов. Тверь, 2001; Геопанорама русской культуры: провинция и ее локальные тексты / Сост. В.В. Абашев, А.Ф. Белоусов, Т.В. Цивьян. М., 2004; а также сборники материалов ежегодной конференции «Жизнь провинции как феномен духовности», проводившейся в Нижегородском госуниверситете с 2003 по 2012 г.
[2] Достаточно сравнить карты США начала XIX в. — с геометрически правильными границами штатов, поделенных на равноправные клеточки квадратных миль, — и почтовые карты России того же времени, где все пути выводят из Москвы и в Москву же ведут, а к Петербургу устремлена лишь одна, зато самая главная, дорога.
[3] Лаунсбери отмечает контраст с началом «Мэнсфилд-парка» Джейн Остен — со сценой, где дети английского баронета смеются над сиротой-кузиной, которая не может перечислить главные реки России и не слышала, что такое Малая Азия. Богатство их отца происходит из колоний, с карибских плантаций, — связь знания и имперской власти дети британской аристократии воспринимают как общее место.
[4] Белинский В.Г. Ничто о ничем, или Отчет г. издателю «Телескопа» за последнее полугодие (1835) русской литературы // Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953. Т. 2. С. 47.
[5] Элиот Т.С. Что такое классик? / Пер. с англ. И.И. Бушмановой // Элиот Т.С. Назначение поэзии. Статьи о литературе. М.; Киев, 1996. С. 257.
[6] Чаадаев П.Я. Философические письма (1829—1830). Письмо первое // Чаадаев П.Я. Полн. собр. соч. и избр. письма: В 2 т. М., 1991. Т. 1. С. 326.
[7] Платонов А.П. «...Я прожил жизнь»: письма 1920—1950 гг. / Сост. и вступ. ст. Н. Корниенко. М., 2013. С. 215.
[8] Терц А. (Синявский А.Д.). В тени Гоголя. М., 2009. С. 512.
Вернуться назад