Алексей Плешков, Ян Сурман
За границами Объективности: исследовательские практики, эпистемические добродетели и личность ученого
31 марта 2021
(беседа с Л. Дастон и П. Галисоном)
Алексей Плешков (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева, директор; кандидат философских наук)
Aleksei Pleshkov (National Research University Higher School of Economics, Poletayev Institute for Theoretical and Historical Studies in the Humanities, Director; PhD)
Ян Сурман (независимый исследователь, PhD)
Jan Surman (independent researcher, PhD)
Ключевые слова: история науки, история знания, объективность, надежность, социальная легитимность науки, исследовательские практики, эпистемические добродетели
Key words: history of science, history of knowledge, objectivity, robustness, social legitimacy of science, research practices, epistemic virtues
УДК/UDC: 001+165+167+168
Аннотация: Какую роль играла объективность в истории науки и какую играет сегодня? Как возможны инновации в науке? Какова взаимосвязь между исследовательскими практиками, эпистемическими добродетелями и научной самостью? Как влияют на характер ученого отношения науки и общества, государства, индустрии, СМИ? И как влияет образ науки-в-становлении — полной неопределенности, сомнений, конфликтов — на ее социальную легитимность? Алексей Плешков и Ян Сурман обсуждают эти и многие другие вопросы с Лоррейн Дастон и Питером Галисоном, авторами классической книги по истории науки «Объективность».
Abstract: What role has objectivity played in the history of science and what role does it play today? How is innovation in science possible? What is the correlation between research practices, epistemic virtues, and the scientific self? How does the relationship of science and society, the state, industry, and mass media influence the character of a scientist? And how does the image of science in a state of change — full of ambiguity, doubt, and conflicts — influence its social legitimacy? Alexei Pleshkov and Yan Surman discuss these and many other questions with Lorraine Daston and Peter Galison, the authors of the classical book on the history of science, Objectiviy.
Aleksei Pleshkov, Jan Surman. Beyond Objectivity: Research Practices, Epistemic Virtues, and Scientific Self
Дастон Л., Галисон П. Объективность Пер. с англ. Т. Вархотова, С. Гавриленко, А. Писарева.
М.: Новое литературное обозрение, 2018. — 584 с. — (История науки).
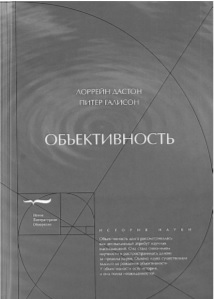
Сегодня, на фоне глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вопросы о надежности научного знания и доверии науке, о личности ученого и неотъемлемых чертах его характера оказались в фокусе общественного внимания. Этот комплекс вопросов, совмещающий в себе эпистемологический и этический аспекты, требует исторического осмысления: актуальность настоящего во многом определяется его отношением к прошлому. Наша беседа с Лоррейн Дастон и Питером Галисоном построена вокруг книги «Объективность» (2007, рус. пер. 2018): ее ключевых идей и ее рецепции, интеллектуального контекста ее создания и влияния ее на современную историю науки, науку и, шире, культуру.
Ян Сурман (Я.С.): Теоретическое и методологическое ядро вашей книги составляют понятия «исследовательские практики», «эпистемическая добродетель» и «научная самость». Соответственно, «Объективность» может быть вписана в общий практический поворот в истории знания и/или интеллектуальной истории. Этот подход имеет важное значение и для нас в ИГИТИ, где мы стремимся работать не только из перспективы больших Идей, но и принимая в расчет конкретные практики. Учитывая это различие между идеями и практиками, мой первый вопрос будет об идее и практике, лежащих в основе вашего исследования. От начала работы над историей объективности до момента выхода книги прошло почти двадцать лет. Не могли бы вы рассказать об изначальной теоретической мотивации, побудившей к реализации столь масштабного проекта в начале 1990-х гг., и о ситуации в 2000-х, когда книга вышла? История науки как дисциплина значительно изменилась за это время. Как эти изменения отразились на вашей работе?
Лоррейн (Рейни) Дастон (Л.Д.): Я пришла к этому проекту, работая над вероятностью и статистикой, и здесь объективность — неизбежная тема [1]. В начале 1990-х мне и Питеру посчастливилось работать в стэнфордском Центре перспективных исследований в области поведенческих наук, о чем у меня остались самые теплые воспоминания. У Питера была идея, что объективность (понятие, которое до этого я рассматривала по преимуществу в его числовых проявлениях, например в связи с методом наименьших квадратов) можно исследовать через призму конкретных визуальных практик. Мы начали проект в тот момент, когда в области истории науки были сильные потрясения. Это было время так называемых «научных войн» [2], по крайней мере в англо-американской среде, где велись споры между реализмом и социальным конструктивизмом, между социологическим и философским подходами. И мы были уверены, что мы не будем пытаться вписаться в эти дискуссии, что наша работа будет независима от них.
Питер Галисон (П.Г.): Мы с Рейни обсуждали разные способы, которыми можно исследовать понятие объективности. В то время я работал над книгой «Образ и логика: материальная культура физики микромира» [Galison 1997] и занимался историей научных приборов, показания которых представлены либо статистически, либо с помощью изображений. Я был заинтригован этой битвой между машинами, которые создают изображения, и машинами, которые считают. В частности, я исследовал специфический набор книг, атласов: атлас снимков пузырьковой камеры, атлас движений ядра, атлас камеры Вильсона. В начале этих книг встречалось: «Мы переняли это у врачей», но ведь физики обычно не говорят, что они чему-то учатся у врачей. Я был озадачен этим и отправился в хранилище Медицинской библиотеки Стэнфордского университета, чтобы посмотреть там медицинские атласы. Их были тысячи: атласы кистей и атласы запястий, атласы глазного яблока, атласы черепа, атласы печени и почек, атласы офтальмоскопии. Я несколько дней просидел, разглядывая эти удивительные книги, написанные для практикующих врачей, которые спорили об объективности и о том, что такое объективный образ как таковой. Я взял целую стопку этих атласов и сказал Рейни: «Смотри, это потрясающе, все эти врачи рассуждают о том, что такое объективное изображение, это нужно исследовать!» Мы заинтересовались тем, что они подразумевают под объективностью, как это понимание меняется с течением времени и какое отношение объективность имеет к другим проблемам, которые интересуют ученых.
Л.Д.: Я думаю, что для многих наших коллег в то время было сложно принять мысль о том, что объективность сама по себе может иметь историю. В середине 1990-х гг. это понималось как утверждение, что объективности не существует, ведь «историзировать» означало «разоблачать». Именно так была воспринята наша первая статья, посвященная объективности [Daston, Galison 1992]. Я думаю, это стало еще одним из стимулов нашего проекта, мы хотели написать историю, которая была бы радикальной в том смысле, что мы берем за основу самоочевидные практику и понятие, но при этом не даем им в этой самоочевидности испариться. Мы рассматривали эту историю не только как историю объективности, историю визуальных практик и атласов, но и как пример радикального историзма, который при этом не был бы историей разоблачения.
Алексей Плешков (А.П.): Для меня очень важна эта идея, что историзация не равнозначна радикальной релятивизации. И как историку философии, занимающемуся античностью, ваш подход напомнил мне о современных реинтерпретациях Аристотеля, в частности о нерелятивистском истолковании его этики [3]. Уверен, это неслучайно, ведь работы французского философа и историка античной философии Пьера Адо вы называете одним из теоретических ориентиров своей книги. Можно концептуализировать этот момент так: (1) научная самость формируется через различные эпистемические добродетели; (2) эти добродетели являются устойчивыми чертами характера, не просто декларируемыми, а культивируемыми в конкретных исследовательских практиках; (3) каждая практика имеет определенную цель и направлена на достижение конкретного блага, при этом добродетель — это то, что необходимо для достижения этого блага или цели. Важно, что историков знания интересуют не какие-либо специфические практики (то есть речь не о микроистории), а устойчивые формы научного взаимодействия, которые позволяют перейти от конкретики к более общему заключению. Например, научные атласы, их подготовка, использование и распространение, как вы замечаете в книге, не являются чем-то уникальным. Создание образов — одна из древнейших практик познания. Соответственно, (4) устойчивые практики — это то, что позволяет нам видеть перемены в эпистемических добродетелях без их радикальной релятивизации.
Итак, мои вопросы: определяется ли научная самость, личность исследователя или ученого чем-то кроме добродетелей, культивируемых в устойчивых практиках? Если эти практики укоренились исторически, как могут изменяться добродетели? Связано ли это с изменением целей или благ, которые лежат в основе той или иной практики? В более общем смысле это вопросы о возможности инновации в науке. если практики схожи, то они культивируют определенные добродетели, которые ведут к определенной научной самости. Но как научная самость находит способы изменяться, создавать новое?
П.Г.: Мы с Рейни очень много общались с Арнольдом Дэвидсоном, который во многом стал для нас проводником по работам Пьера Адо и Мишеля Фуко [4]. Он различает, как Адо рассматривает научную самость в книге «Философия как образ жизни» [Адо 2005] и как Фуко занимается этой проблемой, особенно в трех томах «Истории сексуальности» [Фуко 1996; 2004; 1998] и в «Герменевтике себя» [Фуко 2007]. Дэвидсон считает, что Адо интересует более общая концепция самости, которая ориентирована не просто на определенный набор эпистемических целей, а на представление о космосе, о том, как мы вписываемся в социальный, физический, нравственный мир. Фуко подхватывает эту идею, но развивает ее в конкретных областях: тело, формирующие нас институты (например, тюрьмы и школы, академические структуры). Я думаю, что мы следуем в этом же направлении, и мы многому научились у Адо и Фуко.
В нашем с Рейни «Образе объективности» [Daston, Galison 1992] мы представили набросок трехчастной картины изменений того, что считалось объективной визуализацией в науке. Затем я опубликовал работу «Объективность романтична» [Galison 2000], о том, что разные представления о самости изначально предопределялись конкретными практиками. Так, например, для создания хорошего научного образа на определенном этапе развития науки необходимым элементом самости ученого считалось самоотречение. Это было связано с идеями романтизма, и существовало в середине — конце XIX в. Тогда мы с Рейни начали рассуждать о том, можем ли мы эксплицировать понятие научной самости из других практик. Но здесь, перед тем как передать слово Рейни, я бы хотел отметить один важный момент: практики не определяют самость полностью. У вас может быть инструмент вроде камеры-обскуры, который использовал, скажем, Уильям Чеселден в XVIII в. Он получал изображение скелета на стеклянной пластине, а затем поправлял рисунок, чтобы идеализировать его. Этот же инструмент, камера-обскура, сто лет спустя мог быть использован, когда, напротив, любой идеализации, любых «улучшений» старались избегать. Таким образом, конкретный научный инструмент, будь то камера-обскура или световой микроскоп, может быть использован различными способами. Мы хотели подчеркнуть, что идея научной самости в исторической перспективе более фундаментальна, чем технологический детерминизм, который диктует, что если у вас есть телескоп, вы используете его таким-то образом; если у вас есть камера-обскура, она должна использоваться таким-то образом.
Л.Д.: Да, мы стремились разграничить технологический детерминизм, с которым не согласны, и идею историзации научной самости, что, в какой-то степени, является нашим главным вкладом в эту дискуссию. Я думаю, один из способов отличить элементы подхода Аристотеля, которые вы справедливо опознали в нашей трактовке эпистемических добродетелей, от самого Аристотеля — это принять точку зрения Питера об историчности самости. Есть большая разница между романтической самостью и самостью, предполагаемой аристотелевским понятием ἕξις (ты становишься храбрым, совершая храбрые поступки, ты становишься справедливым, совершая справедливые поступки). Это функция воли. Воля является абсолютно основополагающей для романтической самости, и в то же время она не играет практически никакой роли в аристотелевской этике.
Если подойти к вашему главному вопросу об инновациях, Алексей, мы думаем, что новые эпистемические добродетели выкристаллизовываются благодаря новым практикам и новым ситуациям. Надеюсь, Питер расскажет о чрезвычайно важном и глобальном проекте, целью которого стало фотографирование черных дыр. Такие проекты — кузница для новых эпистемических добродетелей. В той статье, о которой упоминал Питер, «Образ объективности», мы все еще были в плену у «поэтапного» взгляда на историю науки и считали, что эпистемические добродетели сменяли друг друга. В процессе создания книги мы пришли к пониманию, что эпистемические добродетели — это некий «репертуар»: они накапливаются, но не заменяют друг друга. Поэтому мы думаем об эпистемических добродетелях не как о целостной самости, а, как и в случае с нравственными добродетелями, как о ресурсах для выражения самости. И многое в том, что касается триумфа той или иной эпистемической добродетели, зависит от принятия решения в трудных случаях.
П.Г.: Проект, в котором я участвовал в течение последних пяти лет, называется «Телескоп горизонта событий» [5]. Это международная коллаборация, в которой участвуют многие страны по всему миру, сейчас там более двухсот исследователей. Для целей проекта используют сеть радиотелескопов по всей Земле, чтобы сделать изображение черной дыры. Чтобы сделать это, необходима координация. Буквально: вам нужен телескоп размером с Землю, чтобы получить изображение супермассивной черной дыры в центре галактики M87 в скоплении Девы. После того как у нас появилось первое изображение, возник вопрос: является ли этот образ объективным? Более года длилась эта дискуссия. Откуда нам знать, что это изображение надежное (robust), что оно не изменится, что оно не показывает кольцо там, где его нет? Самым ужасным было бы выйти к прессе и показать, скажем, темный диск, окруженный светящейся плазменной массой, а затем выяснить, что в действительности перед нами искажение, вызванное лишь способом, которым изображение было создано. Так что все тесты, которые мы проводили день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем в течение года, держались в тайне. И величайшим чудом было не изображение черной дыры, а то, что двести ученых держали рот на замке в течение года. это не то, чему учат ученых, но мы справились. И вот 10 апреля 2019 г. мы выпустили снимок, и он представляется нам надежным [6]. Это пример споров об объективности в современной форме: ученые использовали статистические аргументы, специально разработанные методы визуализации, новые виды тестирования изображения (например, последовательное отключение антенн для проверки того, осталось ли изображение, не было ли оно произведено одной антенной в Испании, или на Южном полюсе, или в Гренландии, или в Аризоне). Внутри коллаборации обсуждались те формы объективности, которые мы с Рейни исследовали в книге. У нас были группы экспертов, каждая из которых выносила суждение о том, насколько надежно изображение. Мы обращались к своего рода механической форме объективности, позволяя компьютеру пользоваться магией машинного обучения и выбирать лучшие настройки для камеры. А потом у нас было что-то вроде усреднения изображений различных групп для создания своего рода идеального образа. Таким образом, у нас есть три вида объективности: идеальный образ, механическая объективность и тренированное суждение — и всё внутри этой совершенно другой формы создания изображений в науке.
Мы прекрасно знали, что будущие проекты могут показывать черную дыру с лучшим разрешением и возможно будет делать не снимки, а фильмы, чтобы видеть изменения в изображении. Но, на мой взгляд, это показывает, что идеи объективности сохраняются: хотя наш снимок — это не последнее слово, но мы получили надежный результат.
Я.С.: У меня есть небольшой уточняющий вопрос к вопросу Алексея. Рейни, вы говорили, что сейчас мы имеем не одну центральную добродетель, но целый репертуар добродетелей и что одна практика может культивировать сразу несколько добродетелей. Интересно, считаете ли вы, что было бы продуктивным найти что-то вроде ключевой добродетели и сконцентрироваться на ней или, наоборот, помнить о разных добродетелях и анализировать их взаимосвязь?
Л.Д.: Я склоняюсь к последнему. Я думаю, что пример Питера прекрасно иллюстрирует то, как все эти эпистемические добродетели собираются вместе, одна к другой, как они разворачиваются в соответствии с требованиями контекста. Думаю, аналогия с нравственными добродетелями многое проясняет. Мы не считаем, что если вы честны, то это исключает верность. Можно подумать, что в чьем-то характере сильнее выражена честность, а не верность, но мы, конечно же, не считаем их взаимоисключающими. Напротив, мы думаем, что они постоянно взаимодействуют. Возможно, полезно представить, что в любой момент истории науки существует некое слияние этих добродетелей, составляющих научный характер эпохи. Но я думаю, что центральная добродетель, вокруг которой, словно вокруг Солнца, вращаются остальные добродетели, была бы скорее исключением, чем правилом.
П.Г.: Историчность объективности и историчность научной самости трудно принять. Нам часто приходилось отвечать на возражения: «Вы считаете, что Ньютон (или Декарт) необъективен? Это неправда!» Здесь важно прояснить с самого начала: Декарт был сфокусирован на проблеме достоверности, Ньютон — на проблеме универсальности и квантификации. Но объективность, ставшая стандартом научного исследования в середине XIX в., предполагала нечто другое: избавление от моих конкретных недостатков, которые я (то есть ученый) навязываю в своем желании подтвердить любимую теорию. Это не было главной заботой Декарта или Ньютона. Сказать, что Ньютона интересовали вопросы квантификации и универсальности, а Декарта — вопросы достоверности, не означает, что их подходы не являются наукой или что это плохие образцы естественной философии XVII в. Это говорит о том, что роль объективности менялась и на самом деле объективность не проявляется как категория, определяющая науку вплоть до XIX в., когда мы начинаем использовать слово «объективность» в смысле, близком современному.
Л.Д.: Для нас один из способов историзации заключался в том, что мы взяли эти эфемерные эпистемологические понятия: достоверность, универсальность и объективность — и попытались закрепить их в конкретном историческом времени и в конкретных практиках. И это включало в себя постановку нового типа вопросов для эпистемологии. Многие писали историю эпистемологии, это не новое начинание. Но прежде задавались совсем другие вопросы. если эпистемология — это постоянный поиск возможных источников ошибок в нашем знании, то возникает вопрос: почему в определенное время и в определенном месте мы вдруг начинаем опасаться нового вида угрозы для надежности нашего знания? Угроза, которую, например, видел Декарт в середине XVII в. и которая была связана с пирроновским скептицизмом [7], сильно отличалась от угрозы проекции «ручных» гипотез (pet hypotheses) на данные, с которой столкнулся, например, Герман фон Гельмгольц в середине XIX в. Обращая внимание на взаимодействие практик и эпистемологических понятий, можно задать вопрос нового типа: «Почему тогда, почему там?»
П.Г.: Очевидно, что в нравственной философии различные добродетели могут конкурировать друг с другом. Цените ли вы честность, верность, меритократию или равенство, эти вещи конкурируют друг с другом. Институты создаются по-разному: либо все занимают схожее начальное положение, либо все имеют одинаковые критерии для продвижения, либо все добиваются одной цели. Все это можно считать формами справедливости, но это очень разные институциональные каноны и разные социальные добродетели.
Научная эпистемология, в некоторых аспектах невероятно изощренная, перенявшая методы из самых разных социальных и естественных наук, в других аспектах довольно наивна. Так, предполагается, что все добродетели должны вести в одном направлении. Это слишком оптимистичное представление о том, как устроена наука, будто все истинное, объективное, точное должно идти рука об руку. Пока мы с Рейни работали над этим проектом, мы сталкивались с тем, что ученые говорили: «Знаете, я готов отказаться от сделанной художником картинки в цвете с хорошей точностью и большой глубиной резкости в пользу размытой черно-белой фотографии с малой глубиной резкости, сделанной на аналоговую камеру». Мы видели, как ученые в процессе своей работы осознавали, что им приходится выбирать между разными эпистемическими добродетелями.
Итак, мы использовали нравственную философию как ориентир. Коллекция из нескольких тысяч научных атласов стала своеобразной базой данных для нашего исследования в области научной эпистемологии. Так мы смогли проследить, что именно ценится учеными в разные периоды времени, скажем, с конца XVII в. и до настоящего времени, каким требованиям они готовы подчиниться. И эти вещи менялись.
А.П.: Почти все ваши примеры из области естественных наук, из области естественной философии, физики. Однако в разных культурах, разных традициях наука понимается по-разному, чему посвящена недавняя статья Рейни «История науки и история знания» [Дастон 2020]. Научные атласы, стабилизирующие научные образы, особенно важны в естественных и медицинских науках. Но как насчет подобных практик в гуманитарных и социальных науках? Например, я считаю, что практики рецензирования могли бы быть предметом поиска эпистемических добродетелей, здесь есть очевидный эвристический потенциал (не только, но в первую очередь — для гуманитарных и социальных наук). Мы с коллегами из ИГИТИ участвовали в нескольких проектах по истории рецензирования [8], и сейчас вместе с Яном мы работаем над специальным выпуском журнала, посвященным книжным рецензиям в контексте истории знания [Rise and Crisis 2021]. Что вы думаете о рецензиях как о предмете для исследования эпистемических добродетелей в области гуманитарных и социальных наук, аналогичного атласам в естественных науках? И какие подобные предметы, практики вы могли бы назвать?
Л.Д.: Прежде всего я думаю, что идея с историей рецензий — чудесная, и я очень надеюсь, что смогу познакомиться с результатами вашего специального выпуска. Уже существующие исследования об истории книги в XVII—XVIII вв. позволяют предположить, что история рецензирования начинается с истории цензуры [9]. В частности, иезуиты в католических странах не только искали теологически сомнительные утверждения в книгах, но и утверждали: «Знаете, этот аргумент не выдерживает критики: ваша латынь ужасна!» Так что я думаю, что эту крайне интересную историю еще предстоит рассказать.
Что касается гуманитарных и социальных наук, так как последние два десятилетия я работаю в немецкоязычном контексте, я хорошо понимаю, что область, которую составляет англо-французская «наука-science», разительно отличается от немецкой «науки-Wissenschaft». И полагаю, что русский эквивалент (как и голландский, и скандинавский) требует отдельного исторического исследования. Это очень интересный вопрос, почему к середине XIX в. в английском языке «наука» довольно сильно ограничилась тем, что мы сейчас назовем естественными науками, в то время как, по крайней мере, в большей части континентальной Европы, включая Францию, подобного ограничения термина не наблюдалось до начала XX в.
Родственный термин «наука-Wissenschaft» до сих пор сохранил широкий охват латинской scientia, обозначавшей любую ветвь систематического знания. Мы сфокусировались на естественных науках, иначе наша книга рисковала превратиться в двадцатипятитомную энциклопедию всех знаний. Хотя, конечно, мы имели в виду гуманитарные и социальные науки, ведь в Германии, как и во Франции, такие термины, как «объективность», использовались еще до того, как появились в естественных науках. Например, в классической филологии или в истории [10]. Думаю, что можно было бы создать гораздо более объемную картину, которая, конечно же, охватывала бы и социальные науки; вспоминается Methodenstreit Макса Вебера и его аргумент об объективности в социальных науках [11]. Можно утверждать, что вопрос об отношении объективности и субъективности стоит перед гуманитарными науками даже острее (если думать об этом как о sciences humaines во французском смысле, то есть о гуманитарных и социальных науках), чем перед науками естественными: источников для возможных субъективных проекций и предубеждений здесь просто больше. Поэтому я думаю, что историю, над которой мы работали, можно было бы дополнить в схожем ключе.
П.Г.: Рейни, я знаю, что ты изучала и другие области, то, как объективность вышла за рамки естественных и медицинских наук. Из наших ранних обсуждений выросла моя работа об объективности в журналистике [Galison 2015]. В журналистику объективность проникает в некотором смысле из научной сферы. Объективность интенсивно обсуждается в середине XIX в., но только в конце XIX в. с ней начинают считаться в журналистике.
В отличие от науки, в журналистике о ценности объективности спорят по всем пунктам, начиная с 1880-х или 1890-х гг. вплоть до настоящего времени. Есть люди, которые оспаривают важность объективности, поскольку видят в ней нечто консервативное по своей природе. Новая журналистика 1960-х, та, которая в Америке называется гонзожурналистикой, Хантер Томпсон и другие, — когда авторы работают в качестве комментатора в процессе переживания событий [12]; это люди, которые возражают против объективности в журналистике, объективности, которая предполагает: «Раз есть две стороны, я буду представлять обе стороны, какой бы одиозной или малозначительной ни была одна из этих сторон». Так что есть много различных аргументов по поводу объективности, она никогда не бывает бесспорным благом. Сегодня, когда после убийства Джорджа Флойда в мире наступил новый поворотный момент в области гражданских прав, журналисты все время спрашивают, какова их роль в объективном освещении событий. Это пример того, как объективность покидает узко научную дискуссию и обретает иную форму и совершенно иную историю.
Л.Д.: Да, в исторической науке есть схожие дискуссии, не совсем уверена, что они строго аналогичны гонзожурналистике, но есть схожие моменты. В середине XIX в. шел ожесточенный спор между историей, которая считалась объективной, под чем подразумевалось использование объективных методов, в значительной степени строго аналогичных методам механической объективности в естественных науках, и историей, которую приятно было читать, такой, которую писал, например, Жюль Мишле. Стоит ли историкам жертвовать читающей публикой во имя своей новой религии объективности? [13] Ранке, как известно, считал, что лучше быть объективным, чем популярным у читателей. Ницше, как не менее известно, обличал жрецов объективности и пытался вернуть истории нарративность. Несмотря на то что в наши дни эти споры утихли, эти дебаты среди историков продолжаются.
А.П.: Я хотел бы вернуться к комментарию Питера о журналистике и ненадолго оставить область науки. Конечно, «Объективность» посвящена науке, она исследует объекты и практики, созданные учеными для других ученых, то есть которые оцениваются и обсуждаются в основном учеными. Какую роль играют в этом другие акторы? Как на эпистемические добродетели влияют отношения науки с обществом, государством, фондами, индустрией, медиа и т.д.? И как, в свою очередь, эпистемические добродетели влияют на эти области? Питер, вы активно участвуете в научной коммуникации, создавая документальные фильмы и художественно-научные (art science) проекты. Можно ли эту деятельность поместить в контекст эпистемических добродетелей и эпистемических режимов? Можно ли показать не просто существование каких-то параллельных дискуссий, а то, как они влияют друг на друга?
П.Г.: Что ж, у кино тоже есть история — я имею в виду документальное кино. То, что большинство считает документальным кино, появляется, видимо, во время Первой мировой войны, начиная с работ Жана Пенлеве и других французов, которые снимали документальные фильмы о природе. Но эти фильмы содержали своего рода сюжетную арку: осьминоги и другие объекты внимания Пенлеве были довольно ясными метафорами, метонимическим замещением человеческого существования, ведь многие темы невозможно было обсуждать из-за цензуры. И это привело многих французских документалистов в научную область, где они могли относительно свободно обходить цензурные ограничения.
Примерно в 1960 г., когда появились переносные звуковые и видеокамеры, технически возможным стало направление cinéma vérité. Это была настоящая революция в документальном кино: появление своего рода «идеализированного изображения». Это не механическая объективность, на мой взгляд: авторы этих фильмов были слишком искушенными, чтобы думать, что они не важны, что в их фильмах нет авторской самореференциальности. Поэтому я думаю, что после cinéma vérité, а затем и после direct cinema, которое было своего рода англо-американским аналогом французского vérité, объективности как таковой был брошен вызов: «Необходимо открыто обсуждать творческие, редакторские, политические, эстетические решения, которые мы принимаем в документалистике». Думаю, большинство режиссеров-документалистов не считают наивно, что застывшая, механическая объективная регистрация мира предполагает соответствие между тем, как событие развивалось бы без камеры, и тем, как оно разворачивается с камерой, монтажом, звуковым дизайном и всем остальным, что входит в производство документального кино.
Конечно, я не пытаюсь сейчас дать исчерпывающую историю документального кино. Это примеры того, что как форма репрезентации кино обладает историей, в которой вопросы объективности постоянно обсуждаются. Я бы сказал, что есть особый вид документального фильма о науке, своего рода объяснение, дидактика, педагогика, то, что французы называют вульгаризацией или популяризацией. У британцев есть целая традиция делать науку доступной для более широкой аудитории. Ты берешь науку и превращаешь ее во что-то allgemeinverständlich [нем. общепонятное]. Но это не то, что меня интересует. Я ничего не имею против таких фильмов и думаю, что все это к лучшему в мире, который часто идеологически враждебен науке. Однако мне интересно обнаруживать творческие, неоднозначные решения, которые сопровождают развитие науки, использовать то, что мы узнали о науке-в-становлении (science in the making): об историческом, социологическом, философском, гендерном контекстах, важных для понимания науки, и встроить это в то, как наука показывается на экране. Именно в этом и заключалось мое сотрудничество с прекрасным южноафриканским художником Уильямом Кентриджем, когда мы делали совместную работу о времени — камерную оперу и инсталляцию [14].
Мы пытались показать развитие представлений о времени от абсолютного к релятивистскому, к вопросу об искажении времени черными дырами, к вопросу о конце времени. На первый план здесь выходят невероятно творческие, иногда разочаровывающие, интригующие, соблазнительные, вызывающие несогласие понятия, связанные с нашим пониманием времени: от ньютоновского понятия абсолютного времени до идеи Эйнштейна, что каждый наблюдатель несет с собой свое время, до представления об останавливающемся времени, наблюдаемом вместе с приближением к горизонту событий черной дыры. «Время никогда не бывает только лишь временем», если перефразировать Фрейда. Оно всегда говорит о чем-то ином. Если вы видите часы на картине позднего Ренессанса, то речь всегда идет о смерти и жизни после смерти, о принятии во внимание конечности человеческого бытия. Это не просто песочные или солнечные часы, это всегда нечто большее.
Я думаю, что этот смысл живет в самих науках, в научных дискуссиях. Когда Эйнштейн утверждает что-то о времени, когда речь идет о том, что пространство искривляется, или о существовании черных дыр, Это пробуждает что-то вне науки, равно как и внутри науки. Можно заметить именно обеспокоенность культуры вопросами объективности, времени и пространства, какими бы абстрактными ни казались эти понятия. Объективность никогда не говорит только лишь про науку: это понятие, формирующее нас как людей, которые живут в мире. Или воля, о которой Рейни упомянула в начале нашей дискуссии. Воля никогда не бывает просто категорией внутри естественных наук, это категория и богословских размышлений: подавить волю, чтобы услышать немодулированный голос бога. Наука существует, она встроена в мир, и я думаю, что это одна из тех идей, которые лежат в основе нашей «Объективности».
Л.Д.: Я согласна с Питером. добавлю один исторический пример и один из современности. Чтобы научная личность была понятна современникам, она должна использовать термины, символы, демонстрировать поведение, которые понятны, принадлежат к этому месту и этому времени. Вот почему вокруг идеала механической объективности сохранилась своего рода аура викторианской самодисциплины. Это был момент, когда профессия ученого становилась признанным призванием, а не побочным занятием нескольких университетских профессоров [15]. Например, у Исаака Ньютона была профессура в Кембридже, но помимо этого практически не было вариантов карьеры для оплачиваемых занятий наукой на постоянной основе. Для того, чтобы создать русло, в которое могли бы перетекать эти эпистемологические импульсы, должен был появиться новый тип личности. Для этого использовались те ресурсы, которые были доступны и понятны тем, кто должен был признать эту новую личность.
Если перенести это на современный мир, то поразительно, что со времен, по крайней мере, Второй мировой войны, по нынешним оценкам, развитые страны инвестируют не менее 2% ВВП в научные исследования и разработки, — это оценка ЮНЕСКО [16]. Это означает, что личность ученого становится все более обращенной во внешний мир. В одних странах это выражено сильнее, чем в других (например, в Великобритании проведение исследований привязано к работе с общественностью). Но это видно почти во всех контекстах, где наука финансируется государством. Сейчас мы находимся в центре пандемии, когда наука стала видна так, как редко бывает. По-моему, это порождает совершенно новое и порой тревожное восприятие науки. Способ, которым научная личность проходит через научную журналистику, — это часто картина «законченной науки», когда все проверки и контрольные мероприятия, описанные Питером в проекте «Телескоп горизонта событий», уже завершились (и обычно все эти проверки, по веским причинам, скрыты от общественности).
Но когда появился новый вирус, наука находилась на нулевой отметке в этом вопросе, пытаясь справиться с ним эмпирически, теоретически и, прежде всего, терапевтически [17]. Общественность столкнулась с образом науки-в-становлении, наука была полна разных мнений, неопределенности, два шага вперед, потом шаг назад, сочетания самых разнообразных методов — от генетического секвенирования нового вируса до мгновенных сообщений в Твиттере врачей из реанимации: «У этого пациента есть симптомы, которые мы никогда не видели раньше, у вас есть такое в Ухане?» Это своего рода кипящий котел из множества методов и коммуникации разных специалистов, которые при других обстоятельствах были бы изолированы друг от друга. Для историка науки это чрезвычайно интересно, и я надеюсь, что это так же интересно и для общественности. Надеюсь, это будет способствовать развитию более детализированного взгляда на науку (подобного тому, который предлагают впечатляющие фильмы Питера). Науку, в которой есть оттенки, которая полна и смелости, и неопределенности, и сомнений, и конфликтов, но которая благодаря этим процессам порождает нечто прочное и достоверное.
Я.С.: Последний вопрос, отчасти вытекающий из того, что Рейни только что сказала о внутренней и внешней стороне науки, и связанный с вопросом об эпистемических добродетелях. В 2008 г. вместе с коллегами из Венского университета мы проводили междисциплинарную дискуссию по истории науки. Один историк науки обратился к ученому-естественнику, ссылаясь на вашу книгу: «Теперь у нас есть эта прекрасная новая книга, в которой говорится, что объективность — это исторический феномен, а вы, ученые-естественники, все еще цепляетесь за объективность, используя ее в своих исследованиях» и так далее. Его оппонент, биолог-теоретик, невозмутимо ответил: «Нет, мы уже давно не пользуемся категорией “объективности”. Если историки хотят что-то сказать об ученых-естественниках, то им стоит взглянуть на то, что ученые сейчас действительно делают».
Я считаю, что оба они были по-своему правы. Питер уже говорил, что есть различные добродетели, которые сейчас обсуждаются учеными, например надежность (robustness), связанная с объективностью, но больше не предполагающая ее центрального значения. Тем не менее, когда ученые начинают объяснять общественности, что происходит в науке, они склонны делать несколько шагов назад, и вместо науки-в-становлении они показывают науку-уже-сделанную, в которой такие термины, как объективность, все еще играют главную роль. Если мы говорим о социальной легитимности науки, возникает проблема. чтобы получить государственное финансирование, ученый должен представить себя как личность, которая будет как можно более убедительна. В последние годы, например, когда происходили марши в защиту науки, понятия научной истины или объективности вновь стали актуальны [18]. И сейчас, как заметила Рейни, мы видим науку-в-становлении. Мы внутри этой ситуации, и сложно сказать, как это повлияет на общественное восприятие науки (например, наука как проект провалилась или, напротив, наука хорошо справляется — я слышал оба мнения). Однако я предлагаю сделать предположение: каким будет будущее для естественных и гуманитарных наук, станут ли научные практики более открытыми (что пытается передать в своих фильмах Питер)? Может ли это нанести ущерб науке, ведь исторически ее легитимность строится на объективности, истине и других добродетелях, которые закрепились во времена «холодной войны»?
П.Г.: В последней главе «Объективности» мы рассматриваем происходящий сейчас переход от репрезентации к презентации, как мы это назвали, к образам-инструментам. речь идет не об образах, которые создаются для того, чтобы репрезентировать мир (то есть представить то, что уже есть), а об образах, которые сами создают или делают что-то (выступают условием начала существования). Это можно назвать инженерным этосом, который влияет на научный этос: идея надежности задает масштаб, создает нечто, а не говорит о том, что это нечто существует или не существует. Это отличительные черты нового комплекса проблем, которые определили способ использования как научных приборов, так и изображений. Сейчас лаборатории нанонаук, объединяющие вирусологов, химиков, физиков- атомщиков, целый спектр дисциплин, формирующихся вокруг новых видов задач (теперь — в особенности вокруг вирусологии) и работающих с объектами, грубо говоря, в масштабах 10-9 метра, создают изображения, чтобы создавать что-то. Эти ученые не беспокоятся, существует ли нанотрубка, — они хотят создать или подключить нанотрубку, проверить, надежно ли программное обеспечение и т.д. это больше напоминает работу хирурга, дистанционную микрохирургию: когда хирург находится за тысячу миль от пациента, он не пытается узнать, существует ли, скажем, рука, он пытается вылечить ее. И изображение, которое он видит на мониторе, — это механизм, инструмент, который сам меняет что-то в мире. Это один из аспектов появления нового вида изображения, образ-инструмент или презентационное изображение, которое мы наблюдаем сейчас. И объективность в этом случае функционирует совсем по-другому: ученые хотят знать, устойчиво (reliable) ли оно, надежно (robust) ли, масштабируемо (scalable), знать, что оно работает (как, например, тестируется атомно-силовой микроскоп или радиотелескоп). Задача здесь не в том, чтобы сказать: «О, нанотрубка существует!»; это не главная функция ни этого вида научной работы, ни инструмента, ни изображения. Что касается восприятия науки обществом, я считаю, что детализированная картина науки-в-становлении вызвала бы у общественности больше доверия, чем отторжения. Если наука преподносится общественности как совокупность утверждений, о которых говорится, что они абсолютно верны, а потом мы видим, как разные утверждения опровергаются одно за другим, это приводит в отчаяние — кажется, что ученые не понимают, о чем говорят (как иногда происходит в науках о еде, где в один год говорится, что нужно придерживаться низкоуглеводной диеты, а в другой — что противоположной). В итоге люди считают, что ученые не знают, о чем говорят, потому что они делают какие-то заявления, а потом отказываются от них. Сейчас, в ситуации с новым коронавирусом ученые объясняют, почему нам нужны рецензируемые публикации и как должен быть организован процесс рецензирования, почему важна статистическая проверка в лаборатории, затем проверка на безопасность, затем на эффективность, почему важен метод слепого тестирования. Нам нужно прояснять, что наука — это процесс, а не только готовые утверждения. Думаю, такое объяснение и демонстрация науки-в-становлении в долгосрочной перспективе могут сделать ее более надежной, более заслуживающей доверия у общества в ситуации, когда на карту поставлены миллионы жизней. Я действительно надеюсь, что процессно-ориентированный, практический взгляд на науку-в-становлении с учетом всех ее нюансов на самом деле мог бы стать союзником науки. В этом я глубоко убежден.
Л.Д.: Я разделяю твой оптимизм, Питер! Конечно, если мы как историки будем предсказывать будущее, то нам аннулируют профсоюзный билет, но я все же сделаю маленький шаг в этом направлении.
Я думаю, важно понять, что цена научного прогресса — это отказ от того, что называется философским и богословским понятием абсолютной истины. Неслучайно момент рождения объективности в середине XIX в. — это момент, когда ученые понимают, что прогресс будет не просто экспансивным (как будто мы добавляем кирпичик за кирпичиком и возводим башню до небес), а революционным в смысле политической революции, то есть разрушительным. Например, необходимо сровнять ньютоновскую механику с землей, чтобы получить эйнштейновскую механику. Сегодня взгляд ученых на истину должен радикально отличаться от платонического взгляда на вечные истины. Жаль, что ни философы, ни ученые не уделяли достаточного внимания вопросу о влиянии научного прогресса на определение истины.
Наше время можно осмыслять как время, когда наконец-то стала очевидной изменчивость понятий истины и прогресса. Так возникает понятие научной надежности, которое отходит от философско-богословского понятия истины и которое привязано, скорее, к тем затруднениям, которые описал Питер. Наши сегодняшние истины — это ложь в будущем. Это было известно ученым уже в XIX в. и стало более очевидным сейчас. Думаю, было бы роковым недоразумением как со стороны науки, так и со стороны общественности полагать, что наука может дать определенность. Неопределенность присуща науке. Ожидать определенности от науки — все равно что ожидать непогрешимости от Папы Римского. Так не работает. Поэтому я думаю, что сейчас со стороны общества происходит переосмысление того, что такое наука.
Я впечатлена тем фактом, что люди, уже забывшие свои школьные познания в математике или естественных науках, сейчас не могут утолить голод в отношении научных нюансов вирусологии: индекса репродукции, скорости репликации и т.д. Они слушают длинные и подробные подкасты, посвященные эпидемиологии и вирусологии. Это особенно бросается в глаза на фоне последних опросов, согласно которым в западных странах лишь малая часть самых одаренных студентов хочет продолжить свою карьеру в области естественных наук и математики. Теперь, как после Второй мировой войны, наука (по крайней мере, некоторые науки) вновь стала чарующей и привлекательной. Некоторые дисциплины стали каналами, определяющими поток культурного спроса. И я думаю, это благоприятный момент не только для укрепления легитимности науки, но и, что еще более важно, для привлечения лучших и наиболее ярких студентов к научной карьере!
Библиография / References
[Адо 2005] — Адо П. Философия как способ жить: беседы с Жанни Карлие и Арнольдом И. Дэвидсоном / Пер. с фр. В.А. Воробьева. М.; СПб.: Степной ветер; Коло, 2005.
(Hadot P. La Philosophie comme manière de vivre. Moscow; Saint Petersburg, 2005. — In Russ.)
[Дарнтон 2017] — Дарнтон Р. Цензоры за работой: как государство формирует литературу / Пер. с англ. М. Солнцевой. М.: Новое литературное обозрение, 2017.
(Darnton R. Censors at Work: How States Shaped Literature. Moscow, 2017. — In Russ.)
[Дастон 2015] — Дастон Л. Дисциплинирование дисциплин: академии и единствознания / Пер. с англ. А. Плешкова // Науки о человеке: история дисциплин / Отв. ред. И.М. Савельева, А.Н. Дмитриев. М.: ИД НИУ ВШЭ, 2015. С. 105—123.
(Daston L. The Academies and the Unity of Knowledge: the Disciplining of the Disciplines // Nauki o cheloveke: istoriya disciplin / Eds. I.M. Savelieva, A.N. Dmitriev. Moscow, 2015. — In Russ.)
[Дастон, 2020] — Дастон Л. История науки и история знания // Логос. 2020. № 30 (1). С. 63—90.
(Daston L. The History of Science and the History of Knowledge // Logos. 2020. № 30 (1). P. 63— 90. — In Russ.)
[Ильина 2020] — Ильина К.А. Рецензирование диссертаций в российских университетах первой половины XIХ века // Научное рецензирование в гуманитарных дисциплинах: жанр, исследования, тексты / Под ред. Н.М. Долгоруковой, А.А. Плешкова. М.: ИД ВШЭ, 2020. C. 43—71.
(Il’ina K. Recenzirovanie dissertacij v rossijskih universitetah pervoj poloviny XIX veka // Nauchnoe recenzirovanie v gumanitarnyh disciplinah: zhanr, issledovanija, teksty / Eds. N.M. Dolgorukova, A.A. Pleshkov. Moscow, 2020. P. 43—71.)
[Научное рецензирование 2020] — Научное рецензирование в гуманитарных дисциплинах: жанр, исследования, тексты / Под ред. Н.М. Долгоруковой, А.А. Плешкова. М.: ИД ВШЭ, 2020.
(Nauchnoe recenzirovanie v gumanitarnyh disciplinah: zhanr, issledovanija, teksty / Eds. N.M. Dolgorukova, A.A. Pleshkov. Moscow, 2020.)
[Степанов 2020] — Степанов Б.Е. «Кризис жанра»: книжные рецензии в перспективе исследований научной коммуникации // Научное рецензирование в гуманитарных дисциплинах: жанр, исследования, тексты / Под ред. Н.М. Долгоруковой, А.А. Плешкова. М.: ИД ВШЭ, 2020. C. 9—39.
(Stepanov B. «Krizis zhanra»: knizhnye recenzii v perspektive issledovanij nauchnoj kommunikacii // Nauchnoe recenzirovanie v gumanitarnyh disciplinah: Zhanr, issledovanija, teksty / Eds. N.M. Dolgorukova, A.A. Pleshkov. Moscow, 2020. P. 9—39.)
[Фуко 1996] — Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности / Пер. с фр. С. Табачниковой. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996.
(Foucault M. Histoire de la sexualité. Vol. I: La Volonté de savoir. Moscow, 1996. — In Russ.)
[Фуко 1998] — Фуко М. История сексуальности-III: Забота о себе / Пер. с фр. Т.Н. Титовой и О.И. Хомы. Киев: Дух и литера; Грунт; М.: Рефл-бук, 1998.
(Foucault M. Histoire de la sexualité. Vol. III: Le Souci de soi. Kiev; Moscow, 1998. — In Russ.)
[Фуко 2004] — Фуко М. Использование удовольствий. Т. 2: История сексуальности / Пер. с фр. В. Каплуна. М.: Академический проект, 2004.
(Foucault M. Histoire de la sexualité. Vol. II: L’Usage des plaisirs. Moscow, 2004. — In Russ.)
[Фуко 2007] — Фуко М. Герменевтика субъекта / Пер. с фр. А.Г. Погоняйло. СПб.: Наука, 2007.
(Foucault M. L’Herméneutique du sujet. Saint Petersburg, 2007. — In Russ.)
[Шартье 2006] — Шартье Р. Письменная культура и общество / Пер. с фр. И.К. Стаф. М.: Новое издательство, 2006.
(Chartier R. Culture écrite et Société. L’ordre des livres (14e—18e siècles). Moscow, 2006. — In Russ.)
[Daston 1988] — Daston L. Classical Probability in the Enlightenment. Princeton: Princeton University Press, 1988.
[Daston 2014] — Daston L. Objectivity and Impartiality: Epistemic Virtues in the Humanities // The Making of the Humanities. Vol. III: The Modern Humanities / Eds. R. Bod, J. Maat, Th. Weststeijn. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014. P. 27—42.
[Daston 2020] — Daston L. Ground-Zero Empiricism // In the Moment: Critical Inquiry Blog. 2020. 10 Apr. (https://critinq.wordpress.com/ 2020/04/10/ground-zero-empiricism/).
[Daston, Galison 1992] — Daston L., Galison P. The Image of Objectivity // Representations. 1992. № 40. P. 81—128.
[Fine 2000] — Fine G. Descartes and Ancient Skepticism: Reheated Cabbage? // The Philosophical Review. 2000. Vol. 109. № 2. P. 195—234.
[Galison 1997] —Galison P. Image and Logic: A Material Culture of Microphysics. Chicago: University of Chicago Press, 1997.
[Galison 2000] — Galison P. Objectivity is Romantic // Humanities and the Sciences / Eds. J. Friedman, P. Galison, S. Haack. N.Y.: American Council of Learned Societies, 2000. P. 15—43.
[Galison 2015] — Galison P. The Journalist, the Scientist, and Objectivity // Objectivity in Science: New Perspectives from Science and Technology Studies / Eds. F. Padovani, A. Richardson. Cham, Switzerland: Springer. 2015. P. 57—75.
[Maclachlan 2017] — Maclachlan F. Max Weber within the Methodenstreit // Cambridge Journal of Economics. 2017. Vol. 41. № 4. P. 1161—1175.
[Mosser 2012] — Mosser J. What’s Gonzo about Gonzo Journalism? // Literary Journalism Studies. 2012. Vol. 4. № 1. P. 85—90.
[Nussbaum 1988] — Nussbaum M. Non-Relative Virtues: An Aristotelian Approach // Midwest Studies in Philosophy. 1988. № 13. P. 32—53.
[Rise and Crisis 2021] — Between Rise and Crisis: Book Reviews in the History of Knowledge / Eds. A. Pleshkov, J. Surman // Studia Historiae Scientiarum. 2021. № 20. — In print.
[Science Wars 2003] — The Science Wars: Debating Scientific Knowledge and Technology / Ed. K. Parsons. Amherst, NY: Prometheus Books, 2003.
[Toews 2019] — Toews J. Historicism from Ranke to Nietzsche // The Cambridge History of Modern European Thought. Vol. 1: The Nineteenth Century / Eds. W. Breckman, P.E. Gordon. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. P. 301—329.
Авторы благодарят стажера-исследователя ИГИТИ Кирилла Прокопова за перевод расшифровки этой беседы с английского языка, а также стажера-исследователя ИГИТИ Антона Прокопчука за помощь в составлении библиографии. Публикация подготовлена в ходе исследования в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИу ВШэ) и с использованием средств субсидии в рамках государственной поддержки ведущих университетов российской Федерации «5-100».
[1] См., например: [Daston 1988].
[2] См., например: [Science Wars 2003].
[3] См., например: [Nussbaum 1988].
[4] Арнольд А. Дэвидсон внес значительный вклад в распространение идей П. Адо и М. Фуко в англоязычной академии. См. список его работ и, в частности, переводов: https://philosophy.uchicago.edu/faculty/davidson.
[5] См.: https://eventhorizontelescope.org/.
[6] См.: https://www.nasa.gov/mission_pages/chandra/news/black-hole-image-makes-history.
[7] См., например: [Fine 2000].
[8] См., например: [Научное рецензирование 2020].
[9] См., например: [Дарнтон 2017; Шартье 2006]. Вопрос об истоках практики рецензирования заслуживает отдельного обсуждения. Традиционно, появление и развитие жанра связывается с появлением и развитием научных журналов (см., например: [Степанов 2020]). В отечественной традиции, по всей видимости, значительное влияние на становление жанра оказала внутриуниверситетская экспертиза (см., например: [Ильина 2020]).
[10] Один из примеров — споры историков о Фукидиде в середине XIX в. См.: [Daston 2014].
[11] См., например: [Maclachlan 2017].
[12] См., например: [Mosser 2012].
[13] См., например: [Toews 2019].
[14] См.: https://galison.scholar.harvard.edu/art-collaborations.
[15] См., например: [Дастон 2015].
[16] См.: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs54-global-investments-rd- 2019-en.pdf.
[17] См.: [Daston 2020].
[18] См., например: https://www.theguardian.com/science/2017/apr/22/global-march-forscience- protests-call-for-action-on-climate-change; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC5579348/.
Вернуться назад