В.А. Кошелев
«Альбом Онегина» и «Х песнь» (эпизод из творческой истории пушкинского романа в стихах)
28 мая 2021

Вячеслав Анатольевич Кошелев в 1967—1971 гг. учился на историко-филологическом факультете Вологодского педагогического института. В 1971—1972 гг. — учитель русского языка и литературы средней школы г. Красавино Великоустюгского района Вологодской области. В 1972—1973 гг. служил в советской армии. В 1973 г. поступил в заочную аспирантуру ИРЛИ, в 1977 г. защитил кандидатскую диссертацию «Эстетические и литературные воззрения русских славянофилов (1830—1850-е гг.)», в 1988 г. защитил докторскую диссертацию «Творчество К.Н. Батюшкова и литературное движение в России первой четверти XIX века».
В 1973—1994 гг. преподавал в Череповецком государственном педагогическом институте, в 1994—2016 гг. — в Новгородском государственном университете, в 2016—2020 гг. — в Арзамасском филиале Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского.
Автор многочисленных статей и более двадцати монографий, в том числе: «Эстетические и литературные воззрения русских славянофилов (1840— 1850-е годы)» (1984), «Творческий путь К.Н. Батюшкова» (1986), «Первая книга Пушкина» (1997), «Алексей Степанович Хомяков» (2000), «Сто лет семьи Аксаковых» (2005), «Афанасий Фет: преодоление мифов» (2006), «“Оперный костюм”: творческий портрет А. К. Толстого» (2017), «Грибоедов в “предлагаемых обстоятельствах”» (2020).
В начале ХХ столетия было обнаружено — потом «расшифровано» и вскоре «разгадано» — то произведение Пушкина, которое поэт болдинской осенью 1830 г. обозначал (в черновых рукописях и в беседах с приятелями) двумя легкими словами: «Х песнь».
В течение ХХ столетия «Х песнь» по-разному осмыслялась несколькими поколениями филологов, историков, поэтов. Было создано множество ее анализов и реконструкций, интерпретаций и даже подделок, во многом запутавших смысл этого в общем-то несложного текста — и всё равно не прояснивших ни цели, ни задач поэта.
Исходная «разгадка»
«Историю разгадки» этого произведения блистательно представил еще в 1934 г. Б.В. Томашевский. В своей огромной (40 страниц большого формата) статье пушкинист описал и начальную «загадку» (неясную по смыслу пушкинскую рукопись с «зашифрованным» текстом — ПД 170 [1]), и первоначальную «разгадку» (расшифровка пушкинской криптограммы П.О. Морозовым), и необходимые уточнения, предложенные М.Л. Гофманом, Н.О. Лернером, Д.Н. Соколовым, С.Я. Гессеном и др., и «вторую разгадку» (доказательство с.М. Бонди того обстоятельства, что «шифрованное стихотворение» представляет 16 неполных «онегинских строф», связанных каким-то единым сюжетом). Далее Томашевский-текстолог точно представил текст «Х песни» и дал к этим строфам яркий исторический комментарий. Комментарий открывал чрезвычайно интересную проблематику, демонстрирующую устойчивую «дворянскую революционность» Пушкина и его симпатию к движению декабристов:
«Строфа I. Властитель слабый и лукавый. Отрицательное отношение Пушкина к Александру I было устойчиво на протяжении всей жизни Пушкина.
Строфа II. По-видимому, имеется в виду Аустерлицкое сражение (1805 г.) и Тильзитский мир (1807 г.), т.е. события, предшествующие 1812 г.
Строфа III. Роль Барклая в войне 1812 г. обрисована Пушкиным в объяснении к стихотворению “Полководец” <…>.
Строфа VI. Пушкин имеет в виду стихотворение князя И. Долгорукова “Авось”, написанное им в форме оды <…>.
Строфа VII. “Ханжу” обычно истолковывают как прозвище Голицына. Дальнейшие стихи говорят об амнистии декабристов, на которую Пушкин не терял надежды.
Строфа VIII. Эта строфа в измененном виде вошла в состав стихотворения “Герой”.
Строфа IX. Перечисляются события 1820—1821 гг.: испанская революция (январь 1820 г.), неаполитанские события (июль 1820 г.), греческое восстание и участие в нем Александра Ипсиланти (безрукий князь) <…>.
Строфа X. Обрисовывается роль Александра I в подавлении революционных движений в Европе.
Строфа XI. Волнения Семеновского полка 17 октября 1820 г.
Строфа XII. Тайные общества. «Искра» — ходовая метафора той эпохи.
Строфа XIV. Беспокойный Никита — Никита Муравьев (1796—1843), член Союза Спасения, Союза Благоденствия и Верховной думы Северного общества; автор проекта конституции. Осторожный Илья — Илья Долгоруков (1797— 1848), участник Союза Благоденствия, в 1820 г. отошел от тайных обществ и по делу декабристов не привлекался. Сопоставление этих имен говорит, что речь идет о Петербурге времени Союза Благоденствия <…>.
Строфа XV. С Луниным (1787—1845) Пушкин был лично знаком <…>. С Якушкиным (1796—1857) Пушкин познакомился еще в Петербурге у П. Чаадаева, а затем встретился с ним у Давыдовых в Каменке 24 ноября 1820 г. <…>.
Строфа XVI. Здесь Пушкин переходит от характеристики петербургских настроений 1818—1820 гг. к положению дела во второй армии (с 1818 г. главнокомандующим этой армией был Витгенштейн), в штабе которой в Тульчине находился центр Южного общества (другая управа была в Каменке)» [Томашевский 1934: 404—407; ср.: Бонди 1973: 260—277].
Находка неизвестного текста из «Евгения Онегина» оказалась особенно важна для «литературоведов-социологов». С одним из них, Н.Л. Бродским, только что выпустившим нашумевший комментарий к «Онегину», Томашевский активно полемизировал, назвав его транскрипцию текста «бракованным хламом дилетантских фантазий» и «политической дискредитацией научной работы», проделанной под флагом «надлежащего, научного, марксистско-ленинского истолкования» [Томашевский 1934: 417].
Помимо неудовлетворительной транскрипции, Бродский, стремясь «довести Х главу до советского читателя», озаботился уяснением «идеологического смысла» «Х песни»: «Логика исторического движения в зарисовке Пушкина, мыслившего исторически и собиравшегося в X главе дать историческую хронику, диктует этот вывод как наиболее отвечающий политическому мировоззрению поэта, продолжавшего и в 30-х годах оставаться верным декабристской идеологии, продолжавшего бороться с самовластием Николая I, с абсолютистско-бюрократической монархией, как он боролся в одних рядах с декабристами в эпоху аракчеевщины <…>. Декабристская глава “Евгения Онегина”, если б она была окончена поэтом и напечатана, вновь напоминала бы его читателям, что идеи декабристов о борьбе с самовластьем и крепостничеством были вызваны исторической действительностью и что их реализация должна стать исторической задачей “николаевской” современности» [Бродский 1957: 368].
И ниже: «Нам неизвестно, как Пушкин развернул бы канву X главы, каковы были бы его “лирические отступления” по поводу декабристского движения. бесспорным остается факт: Пушкин в 1830 г. достиг наивысшей объективной правды в изображении общественного движения своего класса, обнаружил ту высокую степень политической зрелости, которая соответствовала его историческому пониманию общественного дела “дворянских революционеров”» [Бродский 1957: 396]. Естественно, что пушкинские «лирические отступления» сами собой связались с фигурой героя романа — и явилось «подтверждение» из воспоминаний М.В. Юзефовича, что Пушкин в июне 1829 г. (во время путешествия на Кавказ) «объяснял нам довольно подробно все, что входило в первоначальный его замысел, по которому, между прочим, Онегин должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов» [Пушкин в воспоминаниях 1985б: 119]. Томашевский уточнил эти воспоминания: «Вероятно, гибель на Кавказе не противопоставлялась декабризму Онегина: по-видимому, он попадает на Кавказ в результате участия в тайных обществах». Здесь же, правда, примечание: «Возможна и другая ошибка Юзефовича: он мог смешать с какой-нибудь другой ситуацией путешествие Онегина на Кавказ из первоначальной восьмой главы» [Томашевский 1934: 387, 419].
Иные комментаторы не доверились этому «подтверждению». Так, Ю.М. Лотман полагал, что «переносить эти рассказы на десятую главу, о которой Пушкин в 1829 году не мог думать, у нас нет достаточных оснований»: «Предположение, что Пушкин в 1829 году почти посторонним людям рассказал некоторый сюжет, а через полтора года стал его же “перелагать” в стихи, подразумевает полное непонимание психологии творчества Пушкина, который редко импровизировал в устной форме и из незаконченного делился лишь замыслами, уже оставленными бесповоротно. Как источник реконструкции не дошедшей до нас части сюжета десятой главы воспоминания Юзефовича следует решительно отвести» [Лотман 1980: 393—394].
Это категоричное суждение кажется тем более верным, что в сохранившемся тексте «Х песни» персонажи романа в стихах (в отличие от его автора) никак не упоминаются. На этом основании, например, Ю.Г. Оксман (а вслед за ним В.В. Пугачев) полагали, что это зачин некоего самостоятельного произведения, написанного онегинской строфой (см.: [Пугачев 1992: 196—205]). Но какого?
В. А. Кожевников высказал экзотическое предположение, что зашифрованные записи представляют собою сохраненные строки из других глав, которые при печати автор обозначил как «пропущенные» (см.: [Кожевников 1988]). Правда, исследователь почти не представил убедительных текстуальных подтверждений своей гипотезы: «Вопросов больше, чем ответов». И лишь в очередной раз посетовал, что «вопросы относительно места шифрованных строф в романе современное пушкиноведение может решить лишь гипотетически», что не только нет «убедительных реконструкций целостного авторского замысла», но они и невозможны «при той ограниченности, даже скудости материала, которым мы располагаем» [Кожевников 1993: 150—151].
Появление подобного рода ничем не подтверждаемых «гипотез» парадоксальным образом укрепляло ту легенду о «Х песни», которая была создана предшествующим поколением великих пушкинистов.
Свидетельства автора
По отношению к этому произведению особенно часто употребляется эпитет «загадочное». Здесь все неясно, начиная с истории и цели написания. По условному пушкинскому заглавию понятно, что «Х песнь» возникла в сознании автора именно «болдинской осенью» 1830 года: сразу после того, как он завершил свой роман в стихах, состоявший из девяти «песен», скомпонованных в три части. 26 сентября 1830 г. датирован так называемый «болдинский» план, в котором каждая из «песен» получила название, подсчитано время работы над романом вплоть до точного количества дней («7 ле[т] 4 ме[сяца] 17 д[ней]» — VI, 532 [2]). Сам поэт мыслил свое сочинение именно в «девяти песнях»: «Я девять песен написал», «Хвала вам, девяти каменам» (VI, 197) и т.д.
Но очень скоро в черновике «Метели» (Пд 997. л. 28) появляется запись:
«19 окт<ября> сожж<ена> Х песнь» (VIII, 622). Кажется, через три недели после возможного начала работы «Х песнь» была по каким-то причинам уничтожена автором. Но С.А. Фомичеву, детально исследовавшему «движение замысла» романа в стихах, такое развитие событий кажется невозможным:
«Трудно предположить, что за три недели (с 26 сентября по 19 октября) была создана целая глава романа, если учесть, что в эти дни написано около двух десятков стихотворений, поэма “Домик в Коломне”, основная часть полемических заметок, озаглавленных позже “Опровержение на критики”, а также повести “Выстрел” и “Метель”. Скорее всего, накануне он восстановил по памяти ранее (до поездки в Болдино) написанные строфы о “Владыке слабом и лукавом”. Возможно, Пушкин записал их текст даже не целиком, а лишь набросал начальные строки этих строф (иногда запамятовав к тому же некоторые строчки), а заново дописал лишь три строфы исторической хроники, дошедшие до нас в болдинских черновиках» [Фомичев 2005: 144—145].
Но в таком случае получается, что материал «Х песни» существовал в сознании Пушкина еще до поездки в Болдино. Нетрудно убедиться и в том, что желание написать это произведение не оставило поэта и позднее. Во всяком случае, это подтверждает второе упоминание «Х песни», сохранившееся в пушкинских рукописях.
Находится оно на полях рукописи «Путешествия Онегина» (ПД 943. Л. 4). На этом листе Пушкин переписал (с чернового автографа из Первой арзрумской тетради — VI, 475—476; ПД 841. Л. 119 об. — 120) 5-ю строфу той песни, которая в «болдинском плане» была названа «Странствие». Эта строфа (датированная в черновом автографе «2 октября [1829]» — VI, 476) в новой записи перечеркнута, и на полях помечено: «в Х песнь» (VI, 496). Вычеркнутая строфа выглядит следующим образом:
Наскуча или слыть Мельмотом,
Иль маской щеголять иной,
Проснулся раз он патриотом
Дождливой скучною порой.
Россия, господа, мгновенно
Ему понравилась отменно,
И решено: уж он влюблен,
Уж Русью только бредит он,
Уж он Европу ненавидит
С ее политикой сухой,
С ее развратной суетой.
Онегин едет; он увидит
Святую Русь: ее поля,
Пустыни, грады и моря.
(VI, 495—496)
Помета «в Х песнь» — рядом со стихами о Европе «с ее политикой сухой». Четвертый стих приведенной строфы «Путешествия…» первоначально указывал на конкретное место в Петербурге, где Онегин «проснулся патриотом»: «В Hôtel de Londres, что на Морской» (VI, 495). Но когда и зачем сделана эта помета?
Мы точно знаем, что в болдинском заточении у Пушкина не было ни черновой, ни беловой рукописи главы «Странствие». В Болдине поэт работал лишь над отдельными строфами этой главы (ПД 166, ПД 168) — в том числе над завершающей («И берег сороти отлогий…» — ПД 169; VI, 506), помеченной датой «18 сент[ября] Болдино. 1830». Во всяком случае, эта помета могла быть сделана или раньше, или позднее начала Болдинской осени. Скорее всего — позднее. В интересующем нас автографе приведенной строфы в тетради ПД 943, чуть ниже, на правом поле того же листа — еще одна помета, которая в «верхнем слое» читается: «Вот это вам письмо точь-в-точь» (VI, 632). Она имеет отношение к «Письму Онегина к Татьяне» (см.: VI, 180), которое Пушкин написал через год после Болдинской осени — осенью 1831 г. Не одновременно ли сделаны эти пометы?
Но тогда получается, что «Х песнь» — произведение, которое отнюдь не было безвозвратно «сожжено» 19 октября 1830 г., а продолжало существовать в сознании и планах Пушкина и через год, когда он готовил к печати «последнюю главу».При этом исследователи, реконструировавшие «Х песнь», так и не нашли в ней места для приведенной выше зачеркнутой строфы «Путешествия…», в которой констатировалась ненависть героя романа к «сухой» европейской политике. В остальном тексте «исторической хроники» Онегин вроде бы никак не упоминается — что же конкретно Пушкин собирался перенести «в Х песнь»? Несколько отмеченных стихов? Всю строфу? Несколько соседних с нею строф?
С.А. Фомичев выдвинул гипотезу, что те пять строф, которые в Первой арзрумской тетради (VI, 473—476; ПД 841. Л. 120—121) и в перебеленном виде в ПД 943 открывали главу «Странствие» («Блажен, кто в юности был молод...»), а в окончательном тексте стали (в переработанном виде) строфами X—XIII главы восьмой, — и должны были, в «промежуточном» замысле, открывать «Х песнь»: «“Проснувшись патриотом”, Онегин историческую жизнь России, наконец, заметил, осмыслил и готов, видимо, теперь к ней приобщиться. Вот после первых пяти строф теперь и должна была, вероятно, встать историческая хроника, сохранившаяся, в основном, в зашифрованных в 1830 г. в Болдине строках» [Фомичев 2005: 151]. Но предложенное затем соединение в пределах единого текста этих строф и последующей «хроники» не убеждает в справедливости высказанной гипотезы: слишком разными по стилю выглядят «соединенные» части.
Вопросы к «разгадке»
Разговор о «Х песне» требует прежде всего ответа на целый ряд «детских» вопросов, которые на поверку оказываются совсем не простыми.
Первый вопрос: с какой стати Пушкин, формально завершивший 26 сентября 1830 г. «Евгения Онегина» в «девяти песнях», задумался еще над какой- то «десятой»?
В.В. Набоков видел в этом порыве общее ощущение неудовлетворенности художника от того, что его творение, формально завершенное, производит ощущение «незаконченного», — и даже предварил разговор о «Х песне» поэтическим пассажем:
«Когда мы задумываемся о судьбе творения писателя за горизонтом не оконченного им романа, наше воображение и наши предположения движимы двумя чувствами. Герой стал нам так близок, что мы не в силах позволить ему уйти, не оставив адреса, ибо автор посвятил нас в такое множество рецептов своей кухни, что мы невольно пытаемся вообразить, как бы мы поступили, предложи он нам дописать роман за него.
“Гамлет” был закончен не только потому, что принц Датский умер, но и потому, что умерли все те, кого мог тревожить его призрак. “Госпожа Бовари” была закончена не только потому, что Эмма покончила с собой, но и потому, что Омэ получил наконец свой орден. “Улисс” был закончен потому, что все уснули (хотя хорошему читателю интересно, где же проведет остаток ночи Стивен). “Анна Каренина” была закончена не только потому, что Анну раздавил товарный поезд, но и потому, что Лёвин нашел своего бога. Но “Онегин” закончен не был.
Заметил Байрон капитану Медуину
(То было в Пизе, в двадцать первом, в октябре):
“Жуан, бедняга, угодит под гильотину
Во Франции... Уж угодил...”
А наш О. Е.?»
[Набоков 1998: 638]
Но как это совмещается с неоднократно выраженной уверенностью Пушкина, что его роман в стихах закончен, несмотря на то что его герой «жив и не женат»? «Задача романиста, — замечает Я.Л. Левкович, — установить то брожение мысли и ту жизнь чувств современного человека, в которых воплощены наиболее характерные черты времени. Психологическое раскрытие образа диктовало развитие сюжета. Этим принципом руководствовался и сам Пушкин в “Евгении Онегине”. Роман мог быть оборван на любой точке сюжетного развития, как только раскрытие образа было исчерпано» [Левкович 1974: 274].
Необходимость «Х песни» ярче всего определялась в том случае, когда для исследователя открывалась задача представить «декабристское» будущее Онегина: «Кто же виноват в несчастье и Онегина и Татьяны? Разумеется, тот уклад общества, который исказил духовную природу Онегина <…> Вопрос “Кто виноват?” решает и сюжетную судьбу Онегина, несчастье довершает его воспитание. Он может выйти на площадь четырнадцатого декабря, выйти против того уклада, который отнял у него его любовь, отравив еще в юности его собственную душу, против того общества, которое сделало его убийцей, которое принесло великое горе его Татьяне. Таким образом, неосуществленное заключение романа о том, что Онегин погибнет в восстании, закономерно вытекает из всего смысла книги, из всего развития ее сюжета и идеи» [Гуковский 1957: 274].
Но приводя героя «на площадь четырнадцатого декабря», автор должен был сознавать, что это невозможно было бы напечатать. Поэтому делается предположение, что Пушкин «некоторое время предполагал “для себя” как-то иначе закончить произведение, осознавая, что в печать этот эпилог пройти не сможет» [Фомичев 2005: 145]. Иными словами — писал, что называется, «в стол», рассчитывая на будущие времена…
Но что именно Пушкин хотел высказать для себя — чего мы не знаем из тех его высказываний, которые предназначались для других? Во всяком случае, в сохранившемся материале «Х песни» мы не обнаруживаем ничего принципиально нового.
Второй вопрос: почему этот «эпилог для себя» был через короткое время уничтожен? — в том же болдинском уединении, да еще в «знаковый» для поэта «день Лицея»? Ведь 19 октября 1830 года — единственная точная дата творческой истории «Х песни», уничтоженной именно в этот день.
Кажется, ответ на этот вопрос предельно прост и обозначен уже в комментарии Н.Л. Бродского: поэт опасался, «что отрывки из десятой главы могут попасть в жандармские руки» [Бродский 1957: 365]. Комментатор так и назвал часть своей книги: «Глава Х (сожженная)», предварив этой констатацией знаменитую фразу булгаковского Воланда: «Рукописи не горят».
С.А. Фомичев объяснил это «сожжение» бытовыми условиями Болдинской осени 1830 г.: «В конце октября Пушкин предпринимает попытку вырваться из заблокированного холерными карантинами Болдина. По прошлогоднему своему кавказскому опыту он помнил, что все вещи и бумаги у путешественника, задержанного в карантине, отбирались для обкуривания. Опасную рукопись поэтому в дорогу брать не следовало. Она была уничтожена и заменена шифрованной записью…» [Фомичев 2005: 151].
Действительно, среди жандармских офицеров попадались грамотные люди, которые могли заинтересоваться рукописью о «Владыке слабом и лукавом…». Но значит ли это, что в несохранившихся «продолжениях» опасных строф были такие характеристики, которые заставили поэта убояться возможных доносов и уничтожить только что написанный «эпилог для себя». Кажется, такой поступок — не в характере Пушкина. Одно дело — уничтожить готовую рукопись «в порыве недовольства», и совсем другое — после долгого и сознательного «раздумья».
Третий вопрос: зачем Пушкину понадобилось «сожженную» главу — зашифровывать? Когда и как эта «шифровка» осуществлялась?
Б.В. Томашевский, детально исследовавший автограф Пушкина с шифрованной записью «Х песни» (ПД 170), обратил внимание на специфическую «особенность шифровки: почерк в каждом куске аналогичных стихов одинаков и меняется лишь при переходе от стихов одного положения в строфе к стихам другого положения. Можно поэтому утверждать, что Пушкин выписывал стихи не в порядке их естественной последовательности, а заполнял свою криптограмму так: сперва выписал все 16 первых стихов, затем (вероятно, в другой раз) выписал 16 вторых стихов. Третьи и четвертые стихи вписаны, по-видимому, в один прием: они записаны в одну колонку, без перерыва и одним почерком». Из этого следует вывод: «Подобный порядок шифровки совершенно исключает возможность записи наизусть. Перед Пушкиным, конечно, лежала перебеленная рукопись шифруемых строф» [Томашевский 1934: 394—395, 420].
То есть создание криптограммы потребовало от Пушкина значительного внимания и — не очень свойственной ему — усидчивости. и все это — перед тем, как бросить в огонь «перебеленную рукопись», которая к тому же, по предположению текстолога, представляла собою «сшитые от руки тетрадки в восьмушку писчего листа», каждая из которых вмещала ровно 16 строф.
В.В. Набоков в своем комментарии оспорил это наблюдение и предложил собственную версию «шифровки»: «Вероятно, Томашевский просто не пытался повторить процедуру. Любой человек с нормальной вербальной памятью в состоянии удержать в уме семнадцать строф (238 стихов). Я проэкспериментировал с теми отрывками из ЕО, которые помню наизусть. Первые и вторые строки, как и целиком начальные четверостишия с их некоторой автономностью, сложности не представляют; начиная с пятых строк внимание становится вялым, накапливаются ошибки. Мне представляется, что Пушкин сел шифровать текст не до того, как сжег все дописанные строфы «десятой главы» (19 октября 1830 г.), а вскоре после того, как читал их наизусть Александру Тургеневу (в начале декабря 1831 г.), то есть тогда, когда засомневался, что сможет сохранить их в памяти. И действительно, когда он принялся пропитывать “десятую главу” мумифицирующим шифром, середины строф — самая уязвимая часть — могли уже вспоминаться нечетко. В нескольких случаях, когда главу цитируют слушавшие ее, возникают варианты; этот странный факт заставляет предположить, что Пушкин то тут, то там по ходу живого чтения подменял забытые слова. И наконец, я считаю, что только отсутствие перед глазами письменного текста способно объяснить пушкинские ошибки» [Набоков 1998: 674].
Кажется, наблюдение Набокова психологически более верно: поэт вряд ли бы стал предварительно «зашифровывать» в Болдине ту главу своего сочинения, которую он к тому же перебелил, — с тем, чтобы не «в порыве страсти», а вполне обдуманно и хладнокровно сжечь беловой автограф. Наконец, вернувшись из Болдина, поэт благополучно читал приятелям фрагменты из «Х песни» и вряд ли при этом заглядывал в «шифровку».
А. И. Тургенев, любивший Пушкина и видевший в нем «сокровище таланта, наблюдений и начитанности о России», был активным слушателем еще не напечатанных стихотворений поэта. После гибели Пушкина в письме к своему двоюродному брату И.С. Аржевитинову от 30 января 1837 г. Тургенев, например, сообщал, что «прочел он мне наизусть много стихов, коих я не знал, ибо они не были напечатаны» [Тургенев 1903: 144]. При этом Пушкин демонстрировал удивительную память на стихи, давно сочиненные.
Фрагменты «Х песни» Пушкин читал Тургеневу в декабре 1831 г., при встрече в Москве. В письме к брату Николаю (политическому эмигранту, жившему во Франции) из Мюнхена от 11 августа 1832 г. А.И. Тургенев вспомнил об этом чтении: «Есть тебе и еще несколько бессмертных строк о тебе. Александр Пушкин не мог издать одной части своего Онегина, где он описывает путешествие его по России, возмущение 1825 года и упоминает, между прочим, и о тебе». Далее цитируется шесть стихов из 15-й строфы («Одну Россию в мире видя…» и след. — VI, 524), в которых иронически описывался «хромой Тургенев», — и дается оценка целого: «В этой части у него есть прелестные характеристики русских и России, но она останется надолго под спудом. Он читал мне в Москве только отрывки» [Тургеневы 1913: 16].
Николай Тургенев отвечал из Парижа 20 августа сердитым замечанием:
«Сообщаемые вами стихи о мне Пушкина заставили меня пожать плечами. Судьи, меня и других осудившие, делали свое дело: дело варваров, лишенных всякого света гражданственности, цивилизации. Это в натуре вещей. Но вот являются другие судьи. Можно иметь талант для поэзии, много ума, воображения и при всем том быть варваром. А Пушкин и все русские конечно варвары. <…> Если те, кои были несчастливее меня и погибли, не имели лучших прав на цивилизацию, нежели Пушкин, то они приобрели иные права пожертвованиями и страданиями, кои и их ставят выше суждений их соотечественников» [Тургеневы 1913: 17].
В приведенном обмене репликами братьев Тургеневых отметим два важных момента:
— В конце 1831 г. (когда Пушкин уже задумался об изменении «болдинского плана» «Онегина» и исключении главы «Странствие» из основного текста романа в стихах) Александр Тургенев воспринял (вероятно, с подачи Пушкина) фрагмент «Х песни» как отрывок из «Путешествия» героя романа по России, ценный именно своими «прелестными характеристиками русских и России».
— Николай Тургенев, который, по предположению брата, должен бы был «умилиться» неожиданным поэтическим упоминанием собственной персоны и «бессмертными строками» о собственных проектах крестьянской реформы, — неожиданно обиделся на «варварство» Пушкина (ср. реплику из следующего письма: «Много бы пришлось говорить о достоинстве поэта, которое Вы приписываете Пушкину и которое он сам себе приписывает. Это бы далеко завело. Байрон был несомненно поэт, но и не в его правилах и не в его привычках было валяться в грязи» [Тургеневы 1913: 19]).
Гипотеза Ю.М. Лотмана
Странная реакция декабриста Н.И. Тургенева на поэтическую характеристику его личности стала основой доклада Ю.М. Лотмана «О композиционной функции “десятой главы” “Евгения Онегина”» (1987). Доклад этот (дошедший до нас лишь в форме тезисов) в какой-то степени развивал те идеи, которые были высказаны в ранее созданном исследователем комментарии к пушкинскому роману.
Уже в комментарии к роману исследователь отметил, что «в обширной литературе по десятой главе нет ни одного исследования, посвященного ее стилю, как нет и убедительных реконструкций целостного авторского замысла». И далее: «Такое положение не случайно. Стилистический анализ десятой главы чрезвычайно затруднен, во-первых, поскольку стилистическое звучание частей текста существенным образом зависит от смысла целого, а целое в данном случае нам неизвестно. Во-вторых, стилистическое звучание строф ЕО, как правило, образуется за счет столкновения первых стихов строфы, которые задают ее тему, и «разработки» этой темы в последующих стихах. Однако известный нам текст дефектен: в нем, как правило, последние десять стихов отсутствуют. Таким образом, смысло-стилистическая “игра” в строфах десятой главы оказалась “стертой”. В результате, если обычный текст ЕО изобилует цитатами, ссылками, пересечениями интонаций и игрой точек зрения, то десятая глава представлена дошедшими до нас отрывками, выдержанными в одном и том же едином интонационном ключе» [Лотман 1980: 413].
В новом докладе ученый рассматривал (на основании тех же немногочисленных материалов) именно особенности поэтики «Х песни» и определял ее композиционное место в замысле романа в стихах. Обратив внимание в переписке братьев Тургеневых на то болезненное впечатление, которое произвели стихи Пушкина на представленного в них декабриста Николая, Лотман соотнес наблюдение о том, что в «Х песне» «есть прелестные характеристики Русских и России», с заглавием позднейших мемуаров Н.И. Тургенева «Россия и русские» («La Russie et les Russes», 1847). Одной из задач этой книги было желание представить в смягченном виде деятельность тайных обществ, члены которых томились еще в то время в Сибири. В первом томе книги была помещена «оправдательная записка», похожая на речь адвоката, который опровергал обвинения, выдвинутые декабристам в «Донесении следственной комиссии».
Пушкин в своей характеристике Николая Тургенева был предельно точен. Уже начало ее («Одну Россию в мире видя…»), рисовавшее фигуру «декабриста-русофила», было, как подметил В.С. Листов, прямой цитатой из известной Пушкину статьи Тургенева «От издателей» (1819), предназначавшейся для неосуществленного журнала «Россиянин XIX века» (в который юноша Пушкин был приглашен сотрудничать): «Добрый смысл русского народа, так сказать, инстинкт величия, спасавший наше отечество в эпохи бедствий и разрушения, никогда не оставит Россию, будет ей сопутствовать и направлять ее на поприще гражданственности. Есть одна только Россия в мире; и она не должна иметь себе равной, — сказал Петр Первый» [Листов 2000: 107].
Но эта точность только усиливала раздражение декабриста. Его причина, «бесспорно, заключается в ускользающем и от людей типа Александра Ивановича Тургенева, и, уж тем более, от наших современников, но болезненно почувствованном Н.И. Тургеневым налете иронии. Уже фраза: “Предвидел в сей толпе дворян / Освободителей крестьян” — задевала больное место движения и указывала на утопичность его планов» [Лотман 1987: 5].
Действительно, эти «забавы взрослых шалунов» предстают в единственной полностью сохранившейся «онегинской строфе» (XV), входящей в «Х песнь», не с «оправдательными» или «смягченными» характеристиками; они преисполнены язвительной иронии:
Друг Марса, Вакха и Венеры
Им резко Лун<ин> предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал
Читал сво<и> ноэли Пу<шкин>
Мела<нхолический> Як<ушкин>
Казалось молча обнажал
Цареубийственный кинжал
Одну Росси<ю> в мире видя
Лаская в ней свой идеал
Хромой Т<ургенев> им внимал
И слово: рабс<тво> ненавидя
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крест<ьян>.
(VI, 524)
«Когда писалась Х глава, — отмечает Лотман, — Лунину было за сорок лет, к давнишней славе бретёра и повесы давно уже прибавился ореол героической личности, мыслителя, каторжника с гордо поднятой головой. Достаточно без предубеждений сопоставить с этим образом фигуру вдохновенно бормочущего “друга Марса, Вакха и Венеры”, чтобы почувствовать иронию и близорукость такого взгляда. Да и меланхолически обнажаемый кинжал, и еще в соседстве с пушкинским чтением ноэлей, выглядел не очень героически и совсем не столь уж опасно для тиранов» [Лотман 1987: 5].
Если представить в целом ту ситуацию, которая нарисована в XV строфе «десятой главы», где на собрании «взрослых шалунов» сначала Лунин предлагает какие-то «решительные меры», потом Пушкин читает «свои ноэли», а затем Якушкин обнажает «цареубийственный кинжал», то можно согласиться с В.В. Набоковым: «Здесь, как и везде, причастность Пушкина к декабризму — лишь стилизация» [Набоков 1998: 661].
Кроме того, в этой строфе намеренно приводятся самые «романтические» из ранних декабристских замыслов: «обреченный отряд» Лунина или предложение Якушкина, вооружившись парой пистолетов, из одного застрелить царя, из другого — себя. Именно эти «забавы» муссировались в слухах и даже попали в правительственные сообщения. И упоминание их вполне могло в подобном «сниженном ключе» существовать и в не «потаенном» литературном тексте. Те же «предвидения» Н.И. Тургенева — не что иное, как стремление к мирной «европеизации» России и мирному уничтожению позорного рабства крестьян; к этому стремился всякий просвещенный и благонамеренный человек. Пушкинские оценки не задевали ни благородства, ни добрых намерений декабристов — но и не могли выглядеть очень уж «крамольно» в глазах властей.
Ю.М. Лотман относит к семантическим «странностям» «Х песни» и то, что «события 1812 г. даны в каком-то сниженном ключе, а упоминание “русского бога” как одной из возможных причин победы после известных стихов Вяземского звучало, по меньшей мере, двусмысленно», и то, что героико-патетические интонации строк о Наполеоне оказываются не очень уместны на фоне оценок «нас», руководимых «слабым и лукавым» владыкой.
На фоне этих наблюдений высказывается гипотеза, что «Х песнь» «по своей композиционной функции может быть сопоставлена с “Альбомом Онегина” и представляет собой текст, написанный от лица героя романа». Это предположение поддерживается, например, тем фактом, что именно в «Х песни» «единственный раз в романе Пушкин упомянут в третьем лице по фамилии, что выглядело бы весьма странно в авторском повествовании» [Лотман 1987: 6].
Отметим, что подобное представление «биографического» Пушкина, читающего перед конкретными людьми конкретные произведения, больше не встречается не только в «Евгении Онегине», но и в остальном поэтическом наследии Пушкина. Правда, С.А. Фомичев, не согласившийся с приведенным наблюдением Лотмана (это лишь «идентичность образа автора — и самого поэта» [Фомичев 2005: 165]), привел «отстраненное» представление Пушкина в «Послании цензору» (1822):
Радищев, рабства враг, цензуры избежал,
И Пушкина стихи в печати не бывали;
Что нужды? Их и так иные прочитали.
(II, 269)
Но пример явно некорректен: уже давно замечено, что в этом случае поэт разумеет В.Л. Пушкина-дядю, автора неподцензурной, но широко известной читающей публике поэмы «Опасный сосед» (1811). В «Х песни» Пушкин (автор) становится тем, о котором говорит некто. Этим «некто» может выступать только главный герой романа — Евгений Онегин.
Гипотезу о том, что «Х песнь» могла представлять собою текст «от лица условного рассказчика», Ю.М. Лотман высказывал еще в комментарии (см.: [Лотман 1980: 414—415]), но в позднейшем докладе она подкреплялась серьезным историко-литературным обоснованием: «Пушкин, усвоив вальтерскоттовскую манеру показывать исторические события глазами лиц, не понимающих их подлинного смысла и масштаба или понимающего их иначе, чем автор, неизменно пытался использовать этот прием не только как средство исторического реализма, но и как удобную возможность обойти цензуру. Так, в обоих замыслах, посвященных изображению декабризма, — “Записках молодого человека” (так называемой “Повести о поручике Черниговского полка”) и “русском Пеламе” — он прибегал к словесной маске рассказчика, пряча свое лицо за фигурой условного повествователя. Такое построение текста характерно и для “Повестей Белкина”, “Истории села Горюхина”, “Капитанской дочки”. Нет ничего запрещающего предположить подобное построение и для Х главы. Особенности Онегина, отличающие его от Пушкина, хорошо просматриваются в характере оценок и тоне повествования Х гл., хотя фрагментарный характер дошедшего до нас текста делает такое предположение одним из возможных. Вставной текст должен был найти свое место в первоначальном “большом” сюжетном плане романа. Когда этот план отпал и “Евгений Онегин” оказался законченным в сильно сокращенном объеме, необходимость такого обширного вставного текста отпала» [Лотман 1987: 7].
Явление альбома
Приведенная гипотеза Ю.М. Лотмана представляется нам убедительной — и прежде всего в психологическом отношении.
Вернемся к «болдинской» ситуации конца сентября 1830 г. Поэт неожиданно завершил работу над своим «трудом многолетним», представив его четкую «трехчастную» и «девятипесенную» конструкцию. И — испытал не только «непонятную грусть» (III, 230), но и естественную неудовлетворенность.
С одной стороны, Пушкин принял осмысленное и принципиальное решение оборвать сюжетное развитие романа, не доводя его до «канонического» завершения, и, отказавшись от традиционных форм композиции, пришел к эстетическому открытию: завершить повествование вместе с исчерпанностью раскрытия образа героя. С другой стороны — что-то в этом герое, именем которого назван роман, осталось все-таки не раскрытым.
Пушкин ощутил, что в романе недостает именно «объективно-личностного» взгляда на Онегина, его «самораскрытия», чего-то подобного «Письму Татьяны» из третьей главы — «письмо, где сердце говорит» (VI, 174). Этот документ, представленный как «неполный, слабый перевод» с замечательного французского «подлинника», оказывается, по существу, «“переводом” глубинной реальности, “сердца” Татьяны» [Бочаров 1974: 78]. Существа этой «глубинной реальности» собственного сердца Татьяна и сама не представляет себе. Поэтому и письмо ее противоречиво и алогично: его содержание попросту не переводится на язык формальной логики. В формуле «Письмо, где сердце говорит…» обращают внимание на субъект: сердце. но не менее показателен и предикат: говорит. Как известно, сердце — даже и в его «поэтическом» осмыслении — не обладает способностью внушать разуму звуки: оно влияет исключительно на человеческие чувства и оперирует только ими.
В этом смысле показательно, что в письме Татьяны нет ни фразы «Я вас люблю», ни даже слова люблю — и тем не менее перед нами «в любви признанье». и иного смысла, кроме откровенно любовного, оно не несет. Речь даже идет о чувстве большем, чем любовь: о «свыше» заданной «предназначенности» людей одной другому («Я знаю: ты мне послан богом!..»). Этот «заветный» документ «от лица» Татьяны представлял образ героини полнее, чем все последующие ее поступки.
Если бы в третьей главе Онегина вместо письма Татьяны было лишь сообщено «от автора», что Татьяна написала и послала «необдуманное письмо» «для милого героя», в котором «любовь невинной девы дышет» (VI, 61), то читатель отнесся бы к ее поступку лишь как к «умильному вздору» — «и увлекательному и вредному» (VI, 65), — не более того. Ничего подобного тому чувству, которое мы испытываем, ознакомившись с текстом письма, мы бы не ощутили.
В «болдинской» редакции последней (девятой) главы романа письма Онегина к Татьяне не было: было лишь указание на существование этого письма (равно как «второго, третьего», на которые Онегин тщетно ждал «ответа день и ночь» — VI, 632). Но без этого письма влюбленность Онегина в замужнюю Татьяну выглядела элементарным светским волокитством, вполне заслуживавшим ответной «отповеди», завершавшейся однозначным «приговором» Татьяны:
Подите… полно — Я молчу —
Я вас и видеть не хочу!
(VI, 635)
«Письмо Онегина к Татьяне», написанное через год после завершения главы, также перемещает акценты восприятия героя. Достигается это прежде всего самим фактом выступления от своего лица, включающего особенную прелесть «неправильностей», как, например, известное нарушение бытовой антиномии «утро» — «вечер»: «Я утром должен быть уверен, / Что с вами днем увижусь я» (VI, 181) — Онегин настолько влюблен, что не способен ждать до «вечера»!
Ничего подобного в отношении героя романа в «болдинском» тексте произведения не было. Это, между прочим, противоречило романному «началу»: «Евгений Онегин», как мы помним, начинается почти «прямой речью» племянника, который готов ради грядущего наследства «на вздохи, скуку и обман» («Мой дядя самых честных правил…» и т.д.). но этот образчик «невысказанной речи» («Так думал молодой повеса…») оказывается практически единственным в романе: увлеченный новыми формами повествования, автор не повторил этот прием.
Между тем, подобный образец «объективно-личностного» взгляда на героя к сентябрю 1830 г. уже существовал. Это так называемый «Альбом Онегина», над которым Пушкин работал весной (между 19 февраля и 5 апреля) 1828 г. (см.: [Иезуитова 1989: 20]) Этот «альбом…» возник поначалу как частный сюжетный ход в романном действии и предназначался для главы седьмой. Попавши в «молчаливый кабинет» уехавшего «странствовать» героя, влюбленная в него Татьяна сначала приглядывается к книгам:И вдруг открылся между их
Альбом — и чтенью предалася
Татьяна жадною душой —
И ей открылся мир мной.
(VI, 613)
Открытие интимного альбома Онегина было, в глазах автора, лишь частным сюжетным мотивом седьмой главы: Татьяна узнает своего героя («уж не пародия ли он?»), исходя из его «альбомных» замечаний. По зрелом размышлении Пушкин отказался от этого мотива и ограничился тем, что Татьяна изучает книги из библиотеки Онегина («Но показался выбор их / Ей странен…») и маргинальные пометы в них. кажется, отказ от альбома произошел по нескольким причинам.
«Выкинув этот эпизод и отняв у Татьяны петербургский дневник Онегина, — замечает Набоков, — Пушкин, несомненно, проявил хороший вкус и избавил Татьяну от бесстыдного любопытства, вряд ли совместимого с ее характером. ибо между чтением частного письма, нечаянно забытого человеком, одолжившим вам книгу, и чтением схолий на полях ее, приоткрывающих характер владельца, лежит пропасть громадного размера» [Набоков 1998: 504]. И.Л. Альми объясняет исключение альбома более изящно: «Дневник Онегина был готов, но автор не сумел увидеть над ним свою “милую Татьяну”. <…> Хотя в бытовом плане чтение бумаг отсутствующего факт вполне вероятный (а находка рукописи — мотив, освященный давней традицией), высокой героине поступок такого рода явно не с руки. В нем не только мало чести, — в нем нет заслуги» [Альми 1998: 70]. Кроме того, эти «красноречивые страницы» были такого рода, что не украшали и Онегина. Наконец, при изучении этого альбома внимание читателя переключалось на Онегина — автору же в данном случае нужно было продолжать тему Татьяны.
Поэтому Пушкин, прописавший в черновой рукописи (ПД 838. Л. 8 об. — 11; VI, 430—437) основные онегинские высказывания из «Альбома…», решил (уже осенью 1828 г., в Малинниках) отказаться от его введения. Но при этом, уже отказавшись от первоначального мотива, почему-то решил (между 27 октября и 7 ноября — см.: [Иезуитова 1989: 20]) «перебелить» и систематизировать для себя именно эти альбомные записи. Сохранилась так называемая «записная книжка» (ПД 840), которая открывалась именно перебеленным «Альбомом Онегина». Из всей седьмой главы Пушкин сохранил здесь только ее «альбомную» часть. он отобрал из прежнего черновика, систематизировал и пронумеровал лишь 11 высказываний своего героя (Л. 3—7 об.). Все они точно подобраны одно к другому. Повествование открывается внешним описанием самого альбома (в беловом автографе — зачеркнутым):
Опрятно по краям окован
Позолоченным серебром,
Он был исписан, изрисован
Рукой Онегина кругом.
Меж непонятного маранья
Мелькали мысли, замеч<анья>,
Портреты, числа, имена
Да буквы, тайны письмена,
Отрывки, письма черновые,
И, словом, искренний журнал,
В который душу изливал
Онегин в дни свои младые,
Дневник мечтаний и проказ.
Кой-что я выпишу для вас.
(VI, 613—614)
Давно замечено, что внешний вид описанного альбома напоминает внешний вид «рабочих тетрадей» самого Пушкина, в которых сохранились его черновые рукописи: «Пушкин любил работать в больших тетрадях. Здесь был необходимый простор для его замыслов и можно было свободно переходить от одного произведения к другому, возвращаться вновь и вновь к строкам, перечеркнутым и без того множество раз. Когда работа не шла, на странице начинали тесниться рисунки, нередко возникали целые графические сюиты, подчиненные ритму причудливых ассоциаций. Когда совершалось какое-нибудь значительное событие, дата его тоже заносилась в тетрадь, — рядом подчас оставлялась краткая запись, до конца понятная одному поэту. Такая помета иногда разрасталась в развернутую дневниковую запись, да и черновики особенно ответственных (как деловых, так и личных) писем Пушкин нередко набрасывал, сохраняя их на память, также в рабочих тетрадях» [Лихачев, Фомичев 1995: 6].
Пушкин назвал эту рабочую тетрадь «альбомом», то есть собранием разнородных записей, принадлежащих или адресованных его владельцу. При этом в «Альбоме Онегина» нет ни одной чужой записи, все они сделаны самим владельцем. кроме того, Пушкин называет альбом «дневником» и «журналом». В.Б. Сандомирская, описывая рабочую тетрадь ПД 838 (в которой записана черновая редакция «Альбома…»), отметила, что пушкинские записи в ней постепенно «приобретают характер дневника»: «…отражением событий и впечатлений жизни являются не только вписанные сюда лирические произведения, но и многообразные пометы на полях — даты, имена, рисунки и портреты, колонки цифр, отдельные слова» [Сандомирская 1982: 242]. И «Альбом Онегина» как будто совмещает в себе и функцию дневника, и функцию своеобразной «записной книжки» героя, наделенного даром острой наблюдательности. Записи в «альбоме» имеют свободную форму, они связаны между собою не последовательностью происходящих событий, а причудливой и капризной логикой размышлений и настроений Онегина.
В описании внешнего вида «Альбома Онегина» перечислены почти все атрибуты творческого процесса его автора: записанные наспех «мысли, замечанья», записи дневникового характера с хронологическими пометами («шестого», «вечор» и т.д.), загадочные цифры, буквенные обозначения упоминаемых в «Альбоме» лиц (возможно, имена реальных представителей столичной знати). По замыслу поэта, «альбом» должен изнутри раскрыть характер героя, очерченный в общих контурах уже в первой главе («Хандра»), объяснить причины этой «хандры», приподнять завесу над странными поступками героя, личности одаренной, незаурядной и духовно богатой, тонкого наблюдателя нравов той среды, из которой он вышел и которую нравственно перерос (см.: [Соловей 1977: 109—111]).
Наконец, уже по внешнему виду «Альбом Онегина» может быть уподоблен реальному «Дневнику Пушкина 1833—1835 гг.» (ПД 843) — шикарной, «парадной» книге, заключенной «в переплет с замочком — нечто вроде запирающегося портфеля» [Якубович 1934: 25—26]. Ср. в черновом описании «Альбома...»: «В сафьяне по краям закован, / Сомкнут серебряным замком…» (VI, 430).
О семантике «Альбома Онегина»
С помощью интимного дневника героя романа Пушкин предполагал ввести читателя в его подлинный внутренний мир, представить самобытность, сложность и богатство его натуры. С одной стороны, «Альбом Онегина» представляет острокритический вариант трактовки образа Онегина, раскрывающий его связь, а не конфликт со средой и эпохой и поверхностный эгоизм. Для альбома показательны тривиальные записи светских сплетен или «картинок», которые демонстрируют разве что эпиграмматическое мастерство героя, тонкого наблюдателя окружающей его ничтожной среды. Отметим, что в «черновой» редакции «Альбома…» подобных эпиграмм и каламбуров гораздо больше, чем в беловой:
Я не люблю княжны S. L.
[Ее невольное кокетство]
Она взяла себе за [цель]
Короче было б взять за средство.
(VI, 432)
В «беловой» редакции такого рода шаржей и сатирических зарисовок гораздо меньше. В центре оказываются серьезные, почти трагические размышления отверженного «светом» эгоиста. Его неприятие «света» отражается уже не в эпиграммах, а в раздумьях над тем, как его воспринимают окружающие, — и чем можно объяснить такое восприятие. «Выписанные» автором «альбомные» записи открываются следующим пассажем:
Меня не любят и клевещут,
В кругу мужчин несносен я,
Девчонки предо мной трепещут,
Косятся дамы на меня.
За что? — за то, что разговоры
Принять мы рады за дела,
Что вздорным людям важны вздоры,
Что глупость ветрена и зла,
Что пылких душ неосторожность
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляет, иль смешит —
Что ум, любя простор — теснит.
(VI, 614)
Последняя цитата открывает умного и самостоятельного мыслителя. Источником ее является апокрифическая фраза, сказанная деятелем петровских времен А. В. Кикиным, — фраза, произнесенная в критическую минуту самодержавному государю его подданным: «Ум любит простор, а от тебя ему было тесно». Эту фразу онегинского альбома Пушкин потом повторит от своего имени в восьмой главе романа, характеризующей и оценивающей героя от лица автора (строфа IX; VI, 169). В. С. Листов заметил, что в данном случае эта деталь свидетельствует об эволюции Онегина: «Если в первой главе свет снисходительно решает: “умен и очень мил” (VI, 7), то теперь онегинский ум уже не так безобиден. Потому-то общество откликается нелюбовью и клеветой. Тем самым Пушкин акцентирует здесь не только на том, как среда одолевала героя, но и на том, как Онегин “теснил” общество, как он был опасен для света» [Листов 2000: 96].
Ю.М. Лотман отметил связь текстов «Альбома Онегина» и непосредственных лирических высказываний Пушкина: «...и не спорь с глупцом» (VI, 614)— «И не оспоривай глупца» (III, 424); «Цветок полей, листок дубрав / В ручье кавказском каменеет...» (VI, 615) — «…Так легкой лист дубрав / В ключах кавказских каменеет (II, 266); «Мороз и солнце! чудный день...» (VI, 616) — «Мороз и солнце; день чудесный» (III, 183) [Лотман 1980: 316]. Но Пушкин, переведя суждения Онегина четырехстопными ямбами, все-таки отделяет его от себя даже и в форме высказываний: ни одно из них в «Альбоме…» не написано «онегинской строфой».
Сквозной лирический сюжет, скрепляющий «Альбом Онегина», — история любви героя романа к некоей R. C. Впрочем, опять-таки неясно: то ли речь о любви, то ли просто эпизод «науки страсти нежной». с одной стороны, Онегин умеет поэтично и искренне описывать собственное увлечение — с другой, это увлечение — не более, чем светская интрижка с замужней женщиной, ничем не кончающаяся. Приведем эти записи целиком:
5
Шестого был у В. на бале.
Довольно пусто было в зале;
R. C. как ангел хороша:
Какая вольность в обхожденье,
В улыбке, в томном глаз движенье.
Какая нега и душа!
[Она сказала nota bene.
Что завтра едет к селимене].
6
Вечор сказала мне R. C.:
Давно желала я вас видеть.
Зачем? — мне говорили все,
Что я вас буду ненавидеть.
За что? за резкий разговор,
За легкомысленное мненье
О всем; за колкое презренье
Ко всем; однако ж это вздор.
Вы надо мной смеяться властны,
Но вы совсем не так опасны;
И знали ль вы до сей поры,
Что просто — очень вы добры?
Через несколько записей — продолжение того же онегинского «романа»:
9
[Вчера у В.], оставя пир,
R. C. летела как зефир,
Не внемля жалобам и пеням,
А мы по лаковым ступеням
Летели шумною толпой
За одалиской молодой.
Последний звук последней речи
Я от нее поймать успел,
Я черным соболем одел
Ее блистающие плечи,
На кудри милой головы
Я шаль зеленую накинул,
Я пред Венерою Невы
Толпу влюбленную раздвинул.
10
- -- - я вас люблю etc.
(VI, 615—617)
Десятую запись «Альбома…» М.Л. Гофман [Гофман 1922: 181—182] посчитал зашифрованной отсылкой к «пропущенной» строфе, предназначавшейся для третьей главы и зачеркнутой в беловой рукописи, — уж очень «по-онегински» она звучит:
Но вы, кокетки записные,
Я вас люблю — хоть это грех
Улыбки, ласки заказные
Вы расточаете для всех
Ко всем стремите взор приятный
Кому слова невероятны
Того уверит поцалуй
Кто хочет — волен: торжествуй
Я прежде сам бывал доволен
Единым взором ваших глаз
Теперь лишь уважаю вас
Но хладной опытностью болен
И сам готов я вам помочь
Но ем за двух и сплю всю ночь.
(VI, 581)
Получается, что речь идет не о романтической любви, а о простом увлечении человека, который готов похвалиться своей «хладной опытностью». Ироническим завершением онегинского «романа», его «последней точкой» становится «представление» глупого мужа «кокетки записной». Оно и завершает беловой текст «Альбома Онегина»:
11
Сегодня был я ей представлен,
Глядел на мужа с полчаса;
[Он важен], красит волоса,
Он чином от ума избавлен.
(VI, 615—617)
Такого рода интимный «альбом», конечно же, приоткрывал личность героя пушкинского романа, но не мог характеризовать его вполне. В собранных (и сохраненных автором) записях отсутствовало главное — общественное лицо Онегина, которое непременно отражается и в «альбомном» творчестве. Ведь Онегин — образованный русский человек — что называется, «не всегда же мог / Beef-steaks и страсбургский пирог / Шампанской обливать бутылкой», сидеть на скучных театральных представлениях, танцевать на балах, ловить прелести «науки страсти нежной»? Он, по указанию автора, интересовался и политической экономией («читал Адама Смита»), и историей («племен минувших договоры»), и текущей политикой. С кем он дружил? С кем и о чем спорил и «размышлял»? Что читал — и как оценивал прочитанное? Как относился к текущей политике правительства? И так далее.
Ничего этого в «Альбоме Онегина» нет, а должно быть и не могло не быть. Автор подчеркнул: он выписал из «замечаний» героя лишь «кой-что». А отбор — связан не только с цензурой, но и с «романной» ситуацией: влюбленной в героя Татьяне важнее как раз движение его «страстей», чем что-либо другое.
Но стоит представить этот «Альбом…» в финале романа в стихах, в качестве «документального» дополнения к целому, и исходная «неполнота» зафиксированных «мыслей, замечаний» сразу же бросается в глаза.
«Х песнь» и Николай I
О.Н. Смирнова, дочь А.О. Смирновой-Россет, решила, что инициалы в «Альбоме Онегина» скрывают реальных лиц светских салонов пушкинского времени. Разгадывая инициалы, она уверенно предположила, что хозяйка салона В. — это Воронцова, а R. C. — это, конечно же, ее мать, Rosset (см.: [Кошелев 2011: 91—97]). В наше время предположение дочери (как будто не имеющее под собой оснований) было поддержано Р.В. Иезуитовой [Иезуитова 1989: 28— 31]. При этом А.О. Смирнова-Россет оказывается важной для нашего сюжета в связи с другим эпизодом ее общения с Пушкиным.
В комментарии Ю.М. Лотмана при перечислении источников сведений о «Х песни» находим странное указание: «В 1931 г. в “Автобиографии” А.О. Смирновой-Россет были опубликованы данные о том, что через Смирнову-Россет Пушкин давал десятую главу на прочтение Николаю I (рукопись воспоминаний с четкими, исключающими возможность описки, сведениями об этом хранится в рукописном отделе Государственной Библиотеки СССР им. В.И. Ленина). <…> При всей интригующей сенсационности этих сообщений, они, к сожалению, не поддаются интерпретации: мы не можем выяснить, что Смирнова называла десятой главой и в какой мере известный ей текст пересекался с тем, что знаем об этой главе мы» [Лотман 1980: 394].
Александра Осиповна Смирнова-Россет (1809—1872), бывшая в молодости (с октября 1826-го по январь 1832 г.) фрейлиной императорского двора, умная, привлекательная, образованная и незаурядная девушка, общалась со всем петербургским пушкинским кругом, в котором славилась умственной живостью и бойкостью. дружила с Пушкиным с 1828-го по 1835 г. (когда вместе с мужем уехала за границу), причем наиболее активный период общения приходился на 1831—1832 годы.
В последние годы, живя за границей и страдая нервическими недугами, Смирнова много работала над обширными автобиографическими записками (в 27 тетрадях). Записки эти состояли из двух мемуарных циклов («Воспоминания о детстве и молодости» и «Баденский роман») и отличались специфическими особенностями: «Прерывая работу вследствие обострения нервной болезни, а потом возвращаясь к ней, она не продолжала и не редактировала написанное ранее, а начинала всякий раз сначала. Поэтому оба ее мемуарных цикла сохранились во многих вариантах, законченных в разной степени: “Воспоминания о детстве и молодости” в шести вариантах; “Баденский роман” — в 12 вариантах. отличительная черта всех этих текстов состоит в том, что, несмотря на довольно устойчивый сюжетный костяк каждого цикла и на обилие штампов, закрепившихся в памяти мемуаристки при рассказе о каких-либо событиях, упоминание того или иного имени или факта вызывало у нее всякий раз иной поток ассоциаций. Поэтому повторяющиеся по сюжету тексты почти никогда не соответствуют полностью друг другу» [Смирнова-Россет 1989: 618— 619]. Именно эта особенность «Записок» Смирновой-Россет на много лет задержала их научное издание.
Указанный Лотманом пассаж отыскивается в том варианте автобиографических записок Смирновой-Россет, который носит название «Биография Александры Осиповны Чаграновой». Отвечая на вопрос: «Как, государь цензурил Пушкина?», мемуаристка вспоминает: «Непременно, и всегда мне посылал то, что прошло через его цензуру. Я прошу вас верить мне, мсье, когда спрашиваете; я отдала ему конверт, содержавший 10 главу Онегина, а потом один раз он мне сам передал “Граф Нулин”. Там, где сказано “в спальне стоял урыльник”, император поставил “будильник”; это очень позабавило Пушкина. Он сказал мне: “Видно, что это большой человек, тот, что поставил будильник; где же нашей братии, сволочи, заводить будильники, я у себя посвятил для урыльника горшок из-под каши и велел его беречь как саксонский фарфор”» [Смирнова-Россет 1989: 414—415] (курсив наш. — В. К.).
Соответствующий эпизод в основном тексте «Баденского романа» выглядит несколько иначе: «Ты знаешь, что государь, когда только что воцарился, вызвал Пушкина в Москву и сказал ему, что он надеется, что он переменит свой образ мыслей, и взялся быть его цензором. Государь цензуровал “Графа Нулина”. У Пушкина сказано: “урыльник”. Государь вычеркнул и написал “будильник”. Это восхитило Пушкина. «C’est la remarque de gentilhomme. [Это замечание джентльмена (фр.).] А где нам до будильника, я в Болдине завел горшок из-под каши и сам его полоскал с мылом, не посылать же в Нижний за этрусской вазой”. Государь тоже цензуровал последние главы “Онегина”. <...> Я очень удивилась, когда раз вечером мне принесли пакет от государя, он хотел знать мое мнение о его заметках. Конечно, я была того же мнения и сохранила пакет, il у a cette magnifique paraphe [там этот великолепный росчерк (фр.)], и в его почерке виден весь человек, т. е. повелитель» [Смирнова-Россет 1989: 349] (курсив наш. — В. К.).
Сообщение Смирновой о том, что исправленная царем рукопись «Графа Нулина» передавалась Пушкину через нее, явно недостоверно: «Граф Нулин» появился в печати еще в 1827 г. (до знакомства Пушкина с мемуаристкой). Посредником между автором и государем выступало III отделение. Сохранилось письмо Пушкина к А.Х. Бенкендорфу от 20 июля 1827 г. с просьбой о «снисходительном позволении» напечатать новую поэму (XIII, 333) и ответ Бенкендорфа с указанием двух отмеченных императором сомнительных мест и о том, что «прелестная пиеса сия позволяется напечатать» (XIII, 336). Возможно, что рассказ Смирновой опирается на какую-то полученную от царя или Пушкина информацию, со временем несколько трансформировавшуюся в ее памяти.
Другое дело — «Х песнь». В Пушкинском доме (Ф. 244. Оп. 17. Ед. хр. 41) действительно сохранился пакет с надписью Николая I «Александре Осиповне Россет в собственные руки». На обороте пакета — надпись Смирновой: «Всем известно, что император Николай Павлович вызвался быть цензором Пушкина. Он сошел вниз к императрице и сказал мне: “Вы хорошо знаете свой родной русский язык. Я прочел главу Онегина и сделал заметки; я вам ее пришлю, прочтите ее и скажите мне, правы ли мои замечания. Вы можете сказать Пушкину, что я вам давал ее прочесть”. Он прислал мне его рукопись в этом пакете с камердинером. Год не помню. А. Смирнова, рожд. Россет» [Цявловский 1930: 222—224].
Принято считать, что таким образом была прислана VII глава «Онегина», разрешение на которую было дано 17 марта 1830 г. (оно было дано III отделением за подписью М.Я. Фон Фока). Сам Пушкин еще за две недели до этого (ок. 5 марта) уехал в Москву (чем, кстати, вызвал недовольство Бенкендорфа — XIV, 70) и вернулся в столицу только 19 июля. Так что предположить в этот период какую-то «литературную» беседу Пушкина со Смирновой-Россет затруднительно. Да и никаких сведений об «исправлении» царем текста седьмой главы «Онегина» не сохранилось: «…мы не знаем ни замечаний царя, ни замечаний фрейлины (если таковые были)» [Зенгер 1934: 517].
При этом сам факт «посредничества» Смирновой-Россет в «литературных» отношениях Николая I и Пушкина, вероятно, был на самом деле: такого невозможно выдумать. Во всех трех записях в качестве редактируемого произведения выступает «Евгений Онегин» — «последние главы», либо конкретно «10 глава» романа в стихах, хотя мемуаристка не могла не знать, что весь роман состоит только из восьми глав.
С бытовой точки зрения в этом эпизоде и Пушкин, и государь-император нарушают утвержденный порядок цензурования новых сочинений поэта, при котором неизбежным «посредником» определялось III отделение. Пушкин каким-то образом сумел лично передать некую главу «Онегина» императору. Тот благоволил посмотреть ее, высказав к тому же какие-то «замечания» и призвав фрейлину присоединиться к ним на том основании, что та «хорошо знает свой родной русский язык». В этом случае Николай взял на себя функцию не столько «высочайшего цензора», сколько «высочайшего редактора». Он, как и Пушкин, избегает посредничества III отделения и даже сохраняет возникшую «тайну»: надписанный конверт надлежит передать «в собственные руки». Общий тон общения «двух потентантов» в данном случае — благожелательный, почти дружеский. Подобная ситуация могла возникнуть прежде всего летом—осенью 1831 г., и объектом «высочайшего редактирования» была именно «Х песнь».25 мая 1831 г. Пушкин вместе с молодой женой переехал в Царское Село, где вел поначалу жизнь тихую и уединенную — вплоть до 10 июля, когда, по случаю холеры, в Царское Село перебрался императорский двор. Пушкин, поселившийся «в доме Китаева, на Колпинской улице», переживал счастливый период. Со Смирновой-Россет он общался «ежедневно» [Смирнова-Россет 1989: 22] — и неожиданно оказался довольно близок к власти. «Царь со мною очень милостив и любезен, — сообщал он П.В. Нащокину 21 июля. — того и гляди попаду во временщики…» (XIV, 196).
По свидетельствам современников, общение поэта и царя в этот период проходило иногда и в неформальной обстановке — например, во время прогулок в парке. Та же Смирнова сообщает, что около 20 июля состоялся разговор, во время которого царь предложил поэту взять его в службу: собирать материал для истории Петра I (см.: [Смирнова-Россет 1989: 556]). Подобного рода общение происходило и в августе: например, Пушкин присутствовал на крестинах великого князя Николая Николаевича, обсуждал с государем стихотворение «Клеветникам России» и т.д. В этот период Пушкин имел возможность «напрямую» передать на просмотр императору на прочтение какое-то сомнительное свое произведение.
И.М. Дьяконов считает, что это была глава «Странствие» (забракованная царем): для друзей поэта «восьмая и десятая главы были синонимы, а когда последняя глава стала восьмой, то название “десятая” закрепилось за “Странствием”» [Дьяконов 1982: 102—104]. Но задачей Пушкина в данном случае было не получить разрешение на публикацию той или другой отдельной «главы» романа в стихах, а определиться с завершением романа в целом. Обращение к Николаю I возникло на фоне важнейших политических событий, взволновавших Россию именно в 1830—1831 г.: польское восстание и восстание в военных поселениях в Старой Руссе. В обоих событиях Пушкин сочувствовал политике, проводимой Николаем, — именно потому, что и польские события, и военные поселения достались новому царю в наследство от Александра I.
В той «дополнительной» части своего «романного» повествования, которая в сознании автора получила условное название «Х песнь», как раз и поднимались эти историософские проблемы: недальновидная политика «слабого и лукавого» владыки Александра I вызвала недовольство значительной части общества — «средних» дворян нового поколения, условных «Онегиных». Поэт и представил подобную оценку — и показал, что, с точки зрения молодых дворян («Онегиных»), само движение декабристов (не восстание, а именно «движение»!) выглядит вполне естественной реакцией на «лукавую» политику прошедшего царствования. Но можно ли об этом открыто говорить в печати? Именно это обстоятельство и хотел выяснить Пушкин, подавая «Х песнь» на высочайшее рассмотрение. И для этого нужно было непременно миновать «посредничество» III отделения.
Николай I понял пушкинскую игру — и ответил тонко и точно. Он вовлек в ситуацию сочувствующую Пушкину фрейлину, попутно поручив ей «филологическое» редактирование сомнительного текста. Собственные замечания царя должны были касаться не поэзии, а «политики» и сводились, вероятно, к тому, что обнародовать высказанные в новом сочинении историософские суждения (хотя бы и совершенно справедливые!) в настоящей обстановке — рано! Все это было облечено флером секретности (конверт, «в собственные руки», «правы ли мои замечания», указание на то, что фрейлина выступила «свидетелем») и свидетельствовало, что в печать «Х песнь» допущена не будет.
После этого эпизода Пушкину остается обдумывать иные способы завершения романа. Тогда же, в Царском Селе он пишет (5 октября 1831 г.) «Письмо Онегина к Татьяне» — последнюю дань утраченной «документальности». Это уже не «неполный перевод» (как письмо Татьяны) и не выписки «кой-чего» из интимного альбома, а именно «письмо его точь-в-точь». Подобная «документальность» тоже была отражением замысла «Х песни».
Свидетельство Вяземского
Чуть раньше Пушкин познакомил с «Х песнью» П. А. Вяземского, о чем последний сообщил в записной книжке (запись от 19 декабря 1830 г.): «Третьего дня был у нас Пушкин. Он много написал в деревне: привел в порядок 8 и 9 главу Онегина, ею и кончает; из 10-й, предполагаемой, читал мне строфы о 1812 годе и следующих — славная хроника; куплеты: Я мещанин, я мещанин; епиграмму на Булгарина за Арапа; написал несколько повестей в прозе, полемических статей, драматических сцен в стихах: Дон Жуана, Моцарта и Салиери; у вдохновенного Никиты, у осторожного Ильи» [Вяземский 1884: 152].
Прежде чем комментировать это известие о чтении автором «сожженной» в Болдине «Х песни», необходимо восстановить некоторые бытовые обстоятельства этого чтения. При известии об эпидемии холеры в Москве Вяземский 19 сентября 1830 г. (за три месяца до приведенной записи) уехал в свое подмосковное Остафьево. Здесь, имея в своем распоряжении прекрасную библиотеку, собранную отцом, он написал книгу «Фон-Визин» (вышедшую в свет лишь в 1848 г.). Со своей книгой он познакомил приехавшего Пушкина. В письме к П.И. Бартеневу от 22 февраля 1867 г. Вяземский вспомнил тот же пушкинский визит в Остафьево: «…ему одному случилось мне прочесть кое- что из Ф.-Визина. После в продолжение многих лет рукопись моя пролежала под спудом».
Один из споров, сопровождавших знакомство Пушкина с книгой Вяземского, описан в том же письме: «Помню, когда холера начала уже спадать, зимою Пушкин приехал к нам в Остафьево. Я прочел ему несколько глав труда своего. Главою о театре был он очень доволен. Но бранил меня за то, что я излишне хвалю французских энциклопедистов. В нем иногда прорывалось это чувство, которое грешно назвать патриотизмом, а более сбивается на фарисеизм. Это чувство ныне еще более опошлилось. Разумеется, Пушкин сердился за то, что я сердился на Ф.-Визина, говорившего с крайним неуважением о том, что нашел он в Европе. Однажды Пушкин тоже в этом роде фонвизинствовал. “Да съезди, милый мой, хоть в Любек”, — прервал его Тургенев. Разумеется, этим и общим хохотом, над которым раздавался звонкий хохот Пушкина, прервались и все прения...» [Цявловский 1936: 151]. Последнюю остроту А.И. Тургенева Вяземский потом несколько раз повторял в ряде своих мемуаров.
То есть чтение фрагментов «Х песни» шло на фоне обсуждения историко-литературного труда Вяземского о сатирике, скончавшемся полвека назад. Острую полемику вызвали «неуважительные» суждения Фонвизина о Европе. Пушкин, никогда не бывавший «хоть в Любеке», поддерживает сатирика; Вяземский, многократно там бывавший, готов Европу защищать. И приведенное выше сообщение в записной книжке Вяземский продолжает странными, вроде бы не имеющими отношения к Пушкину, наблюдениями: «Что может быть нелепее меры велеть выезжать подданным из какого-нибудь государства? Тут какой-то деспотизм ребяческий. Так дети в ссорах между собой отнимают друг у дружки свои игрушки или садятся спиной один к другому. До какой подлости может доводить глупость?» И далее:
«Статистические взгляды на Россию. Россия была в древности варяжская колония, а ныне немецкая, в коей главные города Петербург и Сарепта. Дела в ней делаются по-немецки, в высших званиях говорится по-французски, но деньги везде употребляются русские. Русский язык же и русские руки служат только для черных работ» [Вяземский 1884: 152]. Это как будто изложение суждения Пушкина.
Из подобных дружеских споров «антиевропейская» пропаганда проникла и в «Х песнь»: «Уж он Европу ненавидит / С ее политикой сухой» и т.д. В контексте главы «Странствие» этот пассаж оправдывал сам факт путешествия Онегина по России (а не в Европу, куда он должен был отправиться, следуя логике характера). Но «повествовательно» описать подобное путешествие Пушкин не мог по определению (сам не побывал!). Передать же видимую «нелюбовь» Онегину, что называется, «от первого лица», — он должен был как раз в «Х песни», что и усилило накал его «житейского» спора с Вяземским.
Пушкин пробыл у Вяземских в Остафьево два дня (16 и 17 декабря) — и познакомил приятеля со многими плодами урожайной Болдинской осени. Перечисляя новые произведения Пушкина, Вяземский только упоминает «Повести Белкина» и «Маленькие трагедии», но особенно интересуется текстами, не предназначенными для печати. Так, его занимает стихотворение «Моя родословная», которое в его восприятии даже «разделилось» на два текста: «куплеты: Я мещанин, я мещанин» и «Епиграмма на Булгарина за Арапа». Она же произвела впечатление на его десятилетнего сына: П.П. Вяземский вспоминал, «как он (Пушкин. — В. К.) во время семейного вечернего чая расхаживал по комнате, не то плавая, не то как будто катаясь на коньках, и, потирая руки, декламировал, сильно напирая на “Я мещанин, я мещанин”, “Я просто русский мещанин”» [Пушкин в воспоминаниях 1985б: 188]. Вяземский, сам «родов дряхлеющих обломок», не мог не сочувствовать проблематике прочитанных «куплетов».
«Евгений Онегин» в этой записи представлен неожиданно. Дело в том, что Вяземский являлся, по существу, «душеприказчиком» пушкинского романа в стихах, наиболее знакомым и с текстом романа, и с его творческой историей. Именно ему Пушкин когда-то сообщил (в письме от 4 ноября 1823 г.) о начале работы над «Онегиным»: «Что касается до моих занятий, я теперь пишу не роман, а роман в стихах — дьявольская разница… и т.д.» (XIII, 73) — именно к нему предварительно посылал для совета еще не напечатанные главы, спрашивал о тех или других введенных в повествование персонажах. Вяземский очень чутко следил за перипетиями сюжета и эволюцией героев повествования.
В декабре 1830 г., после разговора с Пушкиным, Вяземский констатирует, что автор, наконец, «привел в порядок 8 и 9 главу Онегина». Эта формула — «привел в порядок» — предполагает, что Вяземский знает, что еще прежде Болдинской осени написана, в основном, восьмая глава («Странствие») и начата девятая («Большой свет»). Важно, что «в деревне» автор прежде всего определил «порядок» событий и строф — и довел повествование до долгожданного «конца». В этом Вяземский согласен с пушкинским замыслом — завершить романную «болтовню», не обозначая формальной сюжетной «развязки» («герой — или женись, или застрелись»). И, кажется, вполне удовлетворен, что на девятой главе «Онегин» «кончается».
И тут же, не противореча этому обстоятельству, упоминаются отрывки «из 10-й, предполагаемой» главы. Но как может явиться «предполагаемое» продолжение — если роман уже завершен? Значит ли это, что продолжение — не для печати? Нечто, написанное «для себя», «в стол», в расчете на внимание будущих поколений? Или нечто «предполагавшееся» ранее, в ходе предшествующей работы, но по каким-то причинам исключенное из романа? Или, наконец, некое «приложение» к уже завершенному повествованию, которое, по определению, должно представать в иной стилистической манере?
Судя по тому, что Пушкин в разговоре с приятелем сохранил «цифру» «предполагаемой» части романа («10-я»), — вернее всего кажется именно последнее предположение: и автор, и «душеприказчик» «Онегина» восприняли «Х песнь» как «предполагаемое» приложение к основному тексту. Это «приложение» достаточно свободно и «зыбко»: в зависимости от обстоятельств оно может «остаться под спудом», но может и в печать «пробиться».
Судя по приведенной выше записи Вяземского, Пушкин в декабре 1830 г. в Остафьеве прочитал (несомненно, наизусть, по памяти) те строфы «Х песни», которые фрагментарно сохранились в «шифрованной» пушкинской «криптограмме». Это — начальные «строфы о 1812 годе и следующих», обозначенные слушателем как «славная хроника». и рассказ о первых декабристских «сходках», обозначенных начальными стихами XIV строфы шифрованной записи:
«…у вдохновенного Никиты, у осторожного Ильи». Показательно, что в записи Вяземского (датированной двумя днями позднее состоявшегося чтения) эти части разделены и выступают самостоятельными произведениями. Это может свидетельствовать, по меньшей мере, о том, что они выглядели стилистически различно и были не похожи друг на друга.
«Славная хроника»
Вот одна из «Заметок (об удачах и ошибках текстологов)» (1968), написанная выдающимся пушкинистом С.М. Бонди, который в знаменитом докладе 1920 г. в Пушкинском семинаре С.А. Венгерова при Петроградском университете (оставшемся ненапечатанным) высказал гипотезу о том, что «криптограмма» «Х песни» предполагает неполную запись шестнадцати «онегинских строф». Эту гипотезу пушкинист развивал во многих своих работах — в частности, и в интересующей нас заметке:
«При первой публикации пушкинского текста отрывок десятой главы “Евгения Онегина” в расшифрованном виде начало его (шестнадцать стихов) печаталось как сплошной, связный текст.
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.
Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У бонапартова шатра.
Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?
Но бог помог — стал ропот ниже,
И скоро силою вещей
Мы очутилися в Париже,
А русский царь главой царей.
А дальше шли отрывочные, не связанные прямо друг с другом четверостишия, трехстишия и т.д.
И чем жирнее, тем тяжеле.
О русский глупый наш народ,
Скажи, зачем ты в самом деле
………………………………
Авось, о Шиболет народный,
Тебе б я оду посвятил...
Позже было выяснено, что эта связность первых шестнадцати строк мнимая, что это не сплошной текст, а четыре начальных четверостишия пушкинских, онегинских строф, отделенные одно от другого десятью стихами — не дошедшими до нас... После стиха “Над нами царствовал тогда” было еще десять неизвестных нам стихов, а затем уже начиналась новая строфа: “Его мы очень смирным знали...”
Почему же эти далеко отстоящие друг от друга четверостишия, четыре начальных “катрена” онегинских строф, будучи соединены вместе, дают такой связный текст? Почему незаметны эти пропуски, нехватки целых десятков стихов между ними? Возможно ли это? Нет ли тут ошибки текстологов, разбиравших пушкинскую зашифрованную запись?
Чтобы убедиться в том, что такое случайное совпадение вполне возможно, что это не единственный случай в “Евгении Онегине”, — приведу еще одно место из пушкинского романа, где целых пять начальных четверостиший соседних строф, присоединенные одно к другому, еще убедительнее сливаются в цельный, связный текст из двадцати стихов.
Час от часу плененный боле
Красами Ольги молодой,
Владимир сладостной неволе
Предался полною душой.
Он иногда читает Оле
Нравоучительный роман,
В котором автор знает боле
Природу, чем Шатобриан.
Поедет ли домой: и дома
Он занят Ольгою своей.
Летучие листки альбома
Прилежно украшает ей...
Конечно, вы не раз видали
Уездной барышни альбом,
Что все подружки измарали
С конца, с начала и кругом.
Тут непременно вы найдете
Два сердца, факел и цветки;
Тут верно клятвы вы прочтете
В любви до гробовой доски…
Текст получился довольно связный и последовательный. а между тем у Пушкина после каждого четверостишия идут еще десять стихов (см. четвертую главу “Евгения Онегина”, строфы от XXV до XXIX)!» [Бонди 1971: 222—224]).
Давняя, исходная гипотеза Бонди опиралась на «формальный» показатель — и действительно, проще интерпретировать «Х песнь», заключив ее в «обязательный» каркас «онегинских строф», хотя бы и «недописанных». Наличие «онегинской строфы» являлось в данном случае доказательством принадлежности «расшифрованного» текста к роману в стихах. Но если мы примем гипотезу Лотмана о том, что «Х песнь» по своей композиционной функции была текстом «от лица» Онегина, то наличие «онегинской строфы» станет, что называется, не обязательным: в «Альбоме Онегина» нет ни одной записи, написанной «онегинской строфой», хотя некоторые из них приближены к подобной «конструкции».
В приведенной заметке С.М. Бонди использует яркое, но незакономерное сопоставление разнородных строф. Одни семантически представляют собой «славную хронику», в других повествуется о чувствах и времяпровождении одного из «частных» персонажей романа. При этом подобную «операцию», кажется, можно провести с большинством строф романа в стихах: в классической «онегинской строфе» первые четыре стиха (с перекрестной рифмовкой) вообще выделяются полнотой заключенного в строфе смысла. Вот, к примеру, самое начало романа:
Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Так думал молодой повеса,
Летя в пыли на почтовых,
Всевышней волею Зевеса
Наследник всех своих родных.
Служив отлично-благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец.
Когда же юности мятежной
Пришла Евгению пора,
Пора надежд и грусти нежной,
Monsieur прогнали со двора.
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть…
Семантическая «выделенность» первых четырех стихов каждой строфы знаменует как будто ее тему, которая будет развиваться и варьироваться в дальнейшем повествовании. Так же самостоятельны и замкнуты в себе и последние два стиха каждой строфы. Их обособленность поддержана уединенной рифмовкой и смыслом: они звучат обычно как афоризмы, «коды» — краткий вывод из всего сказанного:
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!
или:
Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня.
Такая композиционная установка, организующая большинство «онегинских строф», позволяет автору, сообщив в начале тему, далее «залетать мыслию» как угодно далеко: в конце строфы он возвращается к теме, делает некоторый «вывод» и переходит к новой теме. Если первые четыре стиха самостоятельны как тема строфы, то последние два — как вывод. Это позволяет рассматривать «онегинскую строфу» как модель условной «словарной статьи» в той многотемной «энциклопедии русской жизни», которую представляет собой весь пушкинский роман.
Еще Л.П. Гроссман отметил, что строфическая система «Евгения Онегина» «поддается классическому принципу тройственного членения», в котором интонационно «различаются восходящая часть (Aufgesang), нисходящая часть (Abgesang) и самостоятельная кода» [Гроссман 1924: 121]. Подобный интонационный рисунок аналогичен особенностям спокойной разговорной речи, которым обычно пользуются «рассказчики». Но — не речи «ораторской», которая, по большому счету, должна основываться прежде всего на восходящей тональности. Для такого рода речений гармония «онегинской строфы» даже противопоказана.
Но «расшифрованная» часть «Х песни» открывается именно «ораторским» историософским вступлением, предмет которого — всем хорошо известные, недавно прошедшие и действительно «великие» события в истории России и Европы. События уже мифологизированные: только благодаря им покойный император Александр I сделался «главой царей» и Александром Благословенным. Краткий пересказ — в сущности, простое напоминание — об этих событиях не предполагает ни варьирования (повышения или понижения) тона, ни даже «вывода» (коды). Довольно и того, что эти события вспоминаются от лица скептика, критически относящегося и к правлению покойного императора, и к славословию его, расцветшему после победы над Наполеоном.
Начальные четыре четырехстишия четырехстопного ямба, открывающие «Х песнь», сами по себе становятся «славной хроникой». Если к каждому из них прибавить в качестве формального дополнения еще по 10 стихов — «хроника» не будет выглядеть сильнее или ярче. В этом легко убедиться, сопоставив пушкинские начальные стихи с поэтическими реконструкциями утраченных «онегинских строф», предпринятыми во второй половине ХХ в. в связи с актуализацией темы «Пушкин и декабристы». Две из них показательны для нашей темы, поскольку их авторы исходили из текста расшифрованной «криптограммы». одна (принадлежащая, вероятно, Д.Н. Альшицу) была создана в ГУЛАГе в начале 1950-х гг., другая, А.Ю. Чернова, — в середине 1980-х гг. на обеих сохранился отпечаток эпохи, в которую они создавались.
Вот как размывается при подобной реконструкции блестящий пушкинский символ «ощипанного» в наполеоновских войнах двуглавого орла России:
Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Б<онапартова> шатра.
Немало перьев эта птица
Лишилась возле австерлица,
И еле спас ее узор
Тильзита тягостный позор.
А нам царя военный гений
Оставил в память той поры
Новинки воинской муштры
Да стон военных поселений.
Под этот стон и ляжешь в гроб,
Ты, — а<лександровский> холоп!
(Д.Н. Альшиц) [Судьба Онегина 2001: 448].
Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Б<онапартова> шатра,
И чашу ратного позора
При окропленье договора
Царь за своих учителей
Пил на глазах европы всей.
Бесславья мутная година,
Неблизкой бури пелена —
Тильзит! — тобой затенена
Полтавской брани годовщина.
Ужель француз неуязвим
И мы спасуем перед ним?
(А.Ю. Чернов) [Судьба Онегина 2001: 459].
И дело совсем не в том, что досочиняли эти строфы, что называется, «не Пушкины». Дело в том, что любые вариации ораторского символа размывали «скептическую ораторию» целого: какого-либо продолжения или доказательства намеченный символ попросту не допускает.
Даже и обращение к собственно пушкинским стихам не улучшает, а ухудшает «славную хронику». Так, еще Н.Л. Бродский обратил внимание на соответствие начальной характеристики Александра I, открывающей «хронику», и ранней эпиграммы «Послужной список» («Воспитанный под барабаном…») [Бродский 1957: 370]. А С.А. Фомичев даже попробовал «соединить» первые четыре стиха и эпиграмму, «которая за незначительными изменениями так и просится в продолжение данной строфы, в которой, очевидно, должна была содержаться общая характеристика императора:
Вл<адыка> слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами ц<арство>вал тогда.
Воспитанный под барабаном,
Наш царь лихим был капитаном,
Под Австерлицем он бежал,
В двенадцатом году дремал,
Зато был фрунтовый профессор,
Но фрунт герою надоел,
По части иностранных дел
Теперь коллежский он асессор> (II, 459)
………………………………..
………………………………..»
[Фомичев 2005: 153]
Проведенная исследователем реконструкция, кстати, не создает и «онегинской строфы»: в ней отсутствует заключительное двустишие (вывод, «кода»). И какой из сказанного может быть «вывод»? И, главное, нужен ли он? Последующий контекст пушкинской эпиграммы — не сильнее, а слабее того, что предстает в «славной хронике», а предпринятая контаминация просто «размывает» афористичность исходного скептического высказывания от лица героя романа.
Словом, для «Х песни» «онегинская строфа» отнюдь не становится универсальной моделью организации поэтического текста. Во всяком случае, открывающую его «славную хронику» следует представлять целостно, а не в качестве каких-то сохранившихся фрагментов не дошедшего до нас текста. Скорее всего, эта самодостаточная «скептическая оратория» и не предполагала оформления в «онегинских строфах».
«Авось»
Фрагменты зашифрованной рукописи, следующие после «славной хроники», четко разделяются на три тематических цикла:
— Повествование о том, как политически «устроились» Европа и Россия после наполеоновских войн (когда Александр I сделался «главой царей»). В соответствии с приведенным выше «комментарием» Б.В. Томашевского, это строфы с VIII по XI, где дается оценка от имени русского дворянина революционным событиям в Испании, в Неаполе, греческому восстанию и индивидуальным политическим эксцессам в остальной Европе — на фоне «исчезновения» «мужа судьбы» Наполеона. В этом же «европейском» контексте представлены недовольство политикой «присмиревшей» России и восстание Семеновского полка. Кажется, в этих фрагментах должно реализоваться неудовлетворение Европой «с ее политикой сухой», проникшей и в Россию.
— Повествование о возникновении первых «тайных обществ» в Петербурге, потом «над холмами Тульчина» (строфы XII—XVI). До поры до времени это только «забавы взрослых шалунов», но к чему эти «забавы» могут привести?
— В строфах V—VII (отделявших «хронику» от последующей «политической» характеристики Европы) содержалось какое-то ироническое отступление, предметом которого оказались специфические черты «русского, глупого, нашего народа», привыкшего надеяться на «русский авось». В дошедшей до нас «криптограмме» «Х песни» (ПД 170) словечко «авось» встречается очень часто. В отмеченных V—VII строфах (от которых сохранилось не более 10 стихов) — три «авося».
Иногда «авось» попадается в самых неожиданных сочетаниях. Так, на левой странице листа во втором столбце «криптограммы» читаем четыре стиха, логически очень разнородных и не связанных друг с другом:
Моря достались Албиону
Авось дороги нам испр<авят>
Измучен казнию покоя
Кинжал Л<увеля> тень Б<ертона>
(VI, 520)
Б.В. Томашевский представил математически рассчитанную и логически непротиворечивую расшифровку 12 «онегинских строф» с сохранившимися первыми четырьмя стихами (в них — несколько ошибок поэта, составлявшего «криптограмму») + 4 строфы, в которых сохранилось три начальных стиха. Но в эту расшифровку не очень укладывались приведенные выше строки.
Исследователь логично предположил: «Очевидно, это стихи одного порядка из тех же 16 строф. Однако их никак не приспособить в качестве пятых стихов. Надо думать, что здесь дальнейшие стихи (вероятнее всего — девятые; за это говорит женское окончание и синтаксический строй, свойственный начальному стиху некоторого периода). Локализуются по строфам два стиха. Второй явно попадает в серию посвященных слову «авось» (строфы VI и VII)» [Томашевский 1934: 394].
В конце концов, «авось» в большом академическом издании оказался в следующем контексте:
Авось, о Шиболет народный
Тебе б я оду посвятил
Но стихоплет великородный
Меня уже предупредил
……………………………
Моря достались Албиону
Авось аренды забывая
Ханжа запрется в монастырь
Авось по манью <Николая>
Семействам возвратит <Сибирь>
…………………………….
Авось дороги нам исправят
(VI, 522).
Из предложенной вроде бы непротиворечивой «расшифровки» выбивался стих «Моря достались Албиону»: «морская» политика Англии плохо соотносилась с «русским авосем». Н.Л. Бродский в своем комментарии предпочел считать этот стих (в отличие от двух следующих, оставленных на своих местах) начальным в специальной строфе, якобы рассказывавшей о переделе Европы державами Священного союза. В связи с этим исследователю пришлось произвольно «перетасовать» (в соответствии с якобы «реконструированной» логикой Пушкина) и порядок других строф [Бродский 1957: 375—398], что нарушило логику расшифрованной «криптограммы».
Б.В. Томашевский, критикуя подобные новации, особенно негодовал на то, что стихи с «авосем» оказались в этой «реконструкции» в самом финале «Х песни», — и с иронией замечал: «Последняя строфа занимает заключительное положение, очевидно, потому, что в ней есть стих “Авось дороги нам исправят”, а по обязательной справке литературоведа-социолога первая шоссейная дорога была построена только в 1830 г., т.е. после событий 1825 г.» [Томашевский 1934: 414].
С.А. Фомичев, который в своем разборе строф «Х песни» не очень следовал за «криптограммой», тоже указал на неуместность стиха про «Албион» в серии рассуждений про «авось»: «По смыслу, речь должна идти о результатах войны, плоды которой народу не достались. Тогда на место встанет строка о морях, а ниже можно ожидать перечисления остальных “благ” (может быть, — “Французский трон опять Бурбону” и т.д.), а смерду русскому пришлось лишь полагаться на авось» [Фомичев 2005: 156]. «Альбион» оказывается рядом с «русским глупым нашим народом», а стих про «авось» и «дороги» отнесен к строфе, где поминается «стихоплет великородный».
В.В. Набоков по поводу стиха о «дорогах» заметил: «Какая могла быть рифма в стихе 6? Заставят? Позабавят? Поставят? Прославят? Расставят? Раздавят? Убавят? Удавят? Есть и еще несколько вариантов, менее очевидных». А по поводу «авося» о сосланных в Сибирь декабристах указал: «Здесь анжам-беман: стих 5 наверняка начинался прямым дополнением, относящимся к недописанному предложению (4—5): “Семействам возвратит Сибирь / <их сыновей>”. В конце строфы скорее всего говорилось о Наполеоне; последним словом в стихе 14 могло быть и само его имя. Декабристов Сибирь еще может возвратить их семействам, но Святая Елена своего пленника уже не отдаст. Возможно, так завершалось это очень пушкинское перечисление и тривиальных, и значительных вероятностей, подсказанных поэту словом “авось”» [Набоков 1998: 647].
С.А. Фомичев не согласен с этой гипотезой: «Разумеется, словесное продолжение в пятой строке, намеченное Набоковым, вполне условно, но необходимость завершить мысль о возвратившихся из Сибири не позволяла там повторять “Авось...”» [Фомичев 2005: 157]. Но почему именно «авось» не увязывается с декабристской темой (тем более, что Пушкин с «авося» и начал) и чем плохо, если декабристы возвратятся из Сибири по «исправленной» дороге?
Вновь обратимся к поэтическим «реконструкциям» «Х песни». В них интересующие нас стихи переместились не на девятое и не на пятое, а на шестое место в «онегинских строфах.
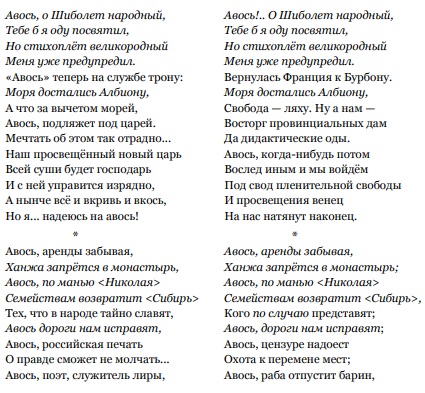
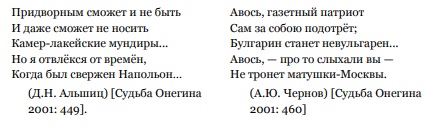
Две несхожих «реконструкции», как бы к ним ни относиться, наглядно демонстрируют «непротиворечивость» соединения разговорной частицы «авось» с «высокой» декабристской тематикой. Кроме того, по-разному представленные «авоси» оказываются в данном случае очень широки в их семантических связях и оттенках. С одной стороны, «Авось теперь на службе трону» — с другой — «Авось, раба отпустит барин»: и мотив укрепления самодержавия, и надежда на отмену крепостного права представлены с помощью одной и той же частицы. Поэтому стоит приглядеться к семантическим возможностям «авося», довольно часто встречающегося в сочинениях и письмах Пушкина.
В словаре В.И. Даля частица авось обозначена как наречие (то бишь значимая часть речи), этимологически возводится к сочетанию «а-во-се — а вот сейчас» и толкуется следующим образом: «может быть, станется, сбудется, с выражением желания или надежды (латинское fore ut)». Толкование это сопровождается целым ворохом примеров «пословичного» словоупотребления:
«Авось бог поможет. Авось — вся надежда наша. Авось, небось, да третий как- нибудь. Авось — хоть брось. Наше авось не с дуба сорвалось, рассудительное. На авось мужик и хлеб сеет. На авось и кобыла в дровни лягает. Авось и рыбака толкает под бока. На авось казак на конь садится, на авось его и конь бьет. Русак на авось и взрос. Ждем, пождем, авось и мы свое найдем. Авось не унывает. От авося добра не жди. Авось плут, обманет. Авось в лес уйдет. Авось до добра не доведет. Авосю верь не вовсе. Авось да живет, не к добру доведет. Авось, что заяц: в тенетах вязнет. Авось задатку не дает. Авось велико слово. Авось не бог, а полбога есть. Авось живы будем — авось помрем. Авось — дурак, с головою выдаст. Держись за авось, поколе не сорвалось. Авося жданки съели». От этой частицы («наречия») образованы существительные авоська («будущий желанный случай, счастье, удача, отвага; кто делает всё на авось»), прилагательное авосьный, глаголы авоськать, авосьничать [Даль 1978: 3—4].
Кроме множества вариантов обычного употребления этого слова, оно может провоцировать и «неочевидные» смыслы. Так, в лермонтовском «Герое нашего времени» Печорин, говоря о своем будущем, заключает: «Мне осталось только одно — путешествовать, только не в Европу — избави боже, в Америку, Индию <...> авось, где-нибудь умру на дороге». Здесь слово авось несет особенную нагрузку: оно употреблено семантически «незаконно» — и эта «незаконность» подчеркивает усталость героя от жизни.
Показательно, что в этом случае явно преувеличивается упование «на авось» как собственно русское чувство («да понадеялся он на русской авось»): беспечная надежда, как заметил И.А. Гончаров во «Фрегате “Паллада”», не столько «в характере русского человека», сколько «в характере просто человека». Это, кстати, очень хорошо показал М.И. Михельсон, сопоставляя «русскую мысль и речь» с инонациональной (см.: [Михельсон 1994: 4—5]).
В качестве «шиболета народного» словечко «авось» стало ощущаться именно с появлением нашумевшей сатирической оды «стихоплета великородного» И.М. Долгорукова «Авось» (1798) [Поэты-сатирики 1959: 402—408]). Из обширного (23 одических строфы) стихотворения Долгорукова комментаторы обыкновенно ограничиваются цитированием четырех стихов, «авосю» посвященных:
О слово милое, простое!
Тебя в стихах я восхвалю!
Словцо ты русское прямое,
Тебя всем сердцем я люблю!
Между тем, содержание этой чрезвычайно яркой для своей эпохи оды никак не сводится только к «воспеванию» этого «прямого слова». Принцип «возвышения на авось» оказывается, например, способом жизни и «возвышения» новой знати — «вельмож в случае». Ведь «случай» в данном случае — то же, что «авось»:
Когда бедняк пот крови точит,
Слезами каждый грош промочит,
По лестнице тот благ летит:
«Авось взойду!» — себе вещает,
И, где не сеял, пожинает,
Что восхотел, то и творит.
Отсюда является представление о том, что «авось» оказывается общим показателем «счастливого пути», путеводной звездой успешных в жизни русских людей:
Авось велико, право, дело!
Он всех затеев наших руль;
Лови успех, чтоб всё кипело,
Коль в мире быть не хочешь нуль…
С «авосем» легче и путешествовать по «неисправным» российским дорогам: не рассчитаешь, где лучше проехать — удобнее передвигаться «наперекор рассудку»:
На свете мыкался я много,
Ходил, езжал и так и сяк;
Пойдешь авось — везде отлого,
Пойдешь с умом — всё буерак.
Удача, матушка ты наша!
Земля такая ныне каша,
Что без тебя всё наплевать…
«Авось» кажется универсальным способом жизнестроения, «всему и всем подпорой». Он — замечательный помощник и в азартной игре:
С ним любо и за карты сесть;
Не глядя в них, кричи знай скоро:
«Бостон!» — открыл — он тут и есть. —
И универсальная «премудрость» в любовных затеях:
Скажи «люблю», скажи, не бойсь;
И верь, что нежно то словечко
Пройдет насквозь ее сердечко.
В любви премудрость вся — авось.
А весь этот «универсум» способен развиваться только потому, что универсальным принципом бытия «в отечестве моем преславном, ни с чьим в подсолнечной не равном», становится способ всеобщего обмана и надувательства — «жизни по лжи». И тут уже без «русского авося» не обойтись никак:
Сожитель женку уверяет,
Что он чужих не терпит жен;
Супруга мужа лобызает,
Твердя, что боле всех мил он;
Скупой свою шкатулу прячет;
Бродяга весь свой век маячит;
Приказный крадет что есть сил;
А всякий сам в себе смекает:
Авось никто-де не узнает,
Что я проказу сгородил.
Ода Долгорукова при всем своем сатирическом запале представляет отнюдь не ироническое, а абсолютно серьезное отношение к такому русскому явлению, как жизнь «на авось»: только таким способом и можно выжить в «преславном» отечестве. Авось — универсальный двигатель русского бытия.
К творчеству «стихоплета» Долгорукова Пушкин с полным правом относился столь же иронически, как к стихам «пиита» М.Н. Муравьева (в первой главе «Онегина»). Но, отправляя читателя к известной его оде, конечно же, не мог не оценить ту степень внутренней свободы и полноты выражения творческой индивидуальности автора, которая в этом творении проявилась. И совершенно искренне сетовал, что стихи о слове «авось» уже написаны, — и написаны не им.
Впрочем, «Ода» Пушкина, как она может быть реконструирована из сохранившихся упоминаний этого слова, была бы совершенно иной. В «Словаре языка...» зарегистрировано 47 случаев употребления Пушкиным «авося». Он воспринимал упование на «авось» иначе, чем Долгоруков. В основе любого «авося» — «не обеспеченное» разумной реальностью упование (надежда) на благоприятное течение событий. Долгоруков в своей оде рисовал примеры «удачных» «авосей». Объявил на авось «Бостон!»; «открыл — он тут и есть». Полетел «по лестнице благ» — и сделался «вельможей в случае». Решил, что «авось никто-де не узнает» про его проделку — никто и не узнал. и так далее.
У Пушкина — иное отношение к «необеспеченной» надежде: «…надежда им лжет детским лепетом своим» (VI, 100). «Авоси», высказанные его героями, почти всегда оборачиваются неудачей. Героиня баллады «Сестра и братья» (из «Песен западных славян») Павлиха заявляет: «У той церкви авось исцелюся» — и тут же раздается предупреждающий «голос»: «Здесь не будет тебе исцеленья» (III, 359). Монах Бертольд («Сцены из рыцарских времен») собирается просить денег на алхимические опыты: «Пойду к барону Раулю, авось даст он мне денег». И тут же — резонный ответ: «Барон Рауль? Да где ему взять денег? Вассалы его разорены» (VII, 217). Поп из сказки о Балде понадеялся «на русской авось» (III, 497), хотя умом прекрасно понимает, что от «щелка» нового работника ему явно не поздоровится…
Персонажи прозаических повестей очень часто уповают на авось. «Авось, — думал смотритель, — привезу я домой заблудшую овечку мою» (VIII, 103) — и не получилось. Арина Савишна, персонаж «Дубровского», надеется, что «авось, Бог пронесет» (VIII, 193) — и снова не «проносит». В «Капитанской дочке» Гринев понадеялся на авось — и попал в буран (VIII, 288); защитники Белогорской крепости надеются: «Авось дадим отпор Пугачеву» (VIII, 316), или: «Видали и башкирцев, и киргизцев: авось и от Пугачева отсидимся!» (VIII, 319); жена священника, прощаясь с Гриневым, высказывает надежду: «Авось увидимся в лучшее время» (VIII, 337); и сам Пугачев надеется на успешный исход восстания: «Авось и удастся» (VIII, 353). Но во всех случаях эти упования на авось оборачиваются неудачей.
И «биографический» пушкинский «авось» — того же порядка и с тем же предощущением невозможности осуществления мечтаний. Вот — из писем поэта к В.А. Жуковскому периода «михайловской» ссылки: «Я все жду от человеколюбивого сердца императора, авось-либо позволит он мне со временем искать стороны мне по сердцу и лекаря по доверчивости собственного рассудка, а не по приказанию высшего начальства» (XIII, 187). «Губернатор обещался отнестись, что лечиться во Пскове мне невозможно — итак погодим, авось ли царь что-нибудь решит в мою пользу» (XIII, 236).
В «Евгении Онегине» «авось» поминается единственный раз — и с прямой констатацией такой же неудачи. Мать Татьяны рассказывает соседу об ухаживаниях за дочерью некоего «гусара Пыхтина»:
Уж как он Танею прельщался,
Как мелким бесом рассыпался!
Я думала: пойдет авось;
Куда! и снова дело врозь.
(VI, 150)
И даже тогда, когда «лестная надежда» кажется возможной, Пушкин предощущает и «не задавшийся» вариант. Так, упованием на «авось» завершается вторая глава романа: «Быть может, в лете не потонет / Строфа, слагаемая мной…» и т.д. (VI, 49). Но вплоть до белового автографа поэт сохранил и указание на иную возможность:
Но может быть и это даже
Правдоподобнее сто раз
Изорванный, в пыли и в саже
Мой недочитанный рассказ
Служанкой изгнан из уборной
В передней кончит век позорный
Как прошлогодний календарь
Или затасканный букварь…
(VI, 572)
Вторая возможность реализации «авося», о которой не принято было рассуждать в собственном творении, признается более «правдоподобной», чем первая.
В «Х песни» в роли «повествователя» выступает не Пушкин, а его герой. и, соответственно, даются еще более показательные примеры «недостижимого авося». кроме всего прочего, перед нами такая «надежда», реализация которой, по закону парадокса, вряд ли и приведет к чему-то хорошему.
«Всегда я рад заметить разность…»
Вернемся к пожеланию «Авось дороги нам исправят». Нетрудно заметить, что оно, прозвучавшее из уст Онегина, не отражает мнений и чаяний самого автора.
Страдания человека, путешествующего по русским дорогам, Пушкин красочно описал в «Путешествии из Москвы в Петербург» (1834): «Не решившись скакать на перекладных, я купил тогда дешевую коляску и с одним слугою отправился в путь. Не знаю, кто из нас, Иван или я, согрешил перед выездом, но путешествие наше было неблагополучно. Проклятая коляска требовала поминутно починки. кузнецы меня притесняли, рытвины и местами деревянная мостовая совершенно измучили. Целые шесть дней тащился я по несносной дороге и приехал в Петербург полумертвый» (XI, 243).
Но далее следует замечательный пушкинский парадокс: «Вообще дороги в России (благодаря пространству) хороши и были бы еще лучше, если бы губернаторы менее об них заботились». Эта губернаторская «забота» по «исправлению» дорог состоит в том, чтобы сдирать с них дерн, который «есть уже природная мостовая», и «заменять наносной землею, которая при первом дождике обращается в слякоть». Тут же приводится пример с «воеводой», который «вместо рвов поделал парапеты, так что дороги сделались ящиками для грязи» (XI, 243). И — невеселое замечание: «Таких воевод на Руси весьма довольно».
Гоголю приписывается знаменитое высказывание о двух извечных бедах России: «дураки и дороги». Кажется, что оно восходит к Пушкину, который к тому же воспринимал эти беды «неразъединенно»: дороги в России потому и плохи, что «исправлять» их призваны дураки (в данном случае — государственные чиновники). В связи с этой констатацией факта Пушкин представляет сложную систему «предпочтений», которые на первый взгляд кажутся парадоксально противоположными.
Вот путешественник из публицистического сочинения 1834 г., сидя в дилижансе и «катясь по гладкому шоссе», замечает: «Великолепное московское шоссе начато по повелению императора Александра; дилижансы учреждены обществом частных людей. Так должно быть и во всем: правительство открывает дорогу: частные люди находят удобнейшие способы ею пользоваться» (XI, 244).
Но в письме к В.Ф. Одоевскому от ноября—декабря 1836 г., касаясь разгоревшейся в то время полемики о железных дорогах, указывает на нечто иное: «…по моему мнению, правительству вовсе не нужно вмешиваться в проект этого Герстнера. Россия не может бросить 3 000 000 на попытку. Дело о новой дороге касается частных людей: пускай они и хлопочут. <…> я, конечно, не против железных дорог; но я против того, чтоб этим занялось правительство» (XVI, 210).
Но противоположность этих утверждений — видимая и легко объяснимая. «Гладкое шоссе» между Петербургом и Москвой создавалось под руководством графа А.А. Аракчеева, при непомерном «утеснении и взятках» (XI, 243), более пятнадцати лет. Сколько же потребуется времени, чтобы «исправить» остальные российские дороги? Это, кажется, можно сделать «по расчисленью философических таблиц: лет чрез пятьсот». Другое дело, когда эта проблема будет решена заинтересованным «обществом частных людей». Да и результат «дорожного» прогресса с подачи «правительства» будет своеобразным:
Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут.
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинем горы, под водой
Пророем дерзостные своды,
И заведет крещеный мир
На каждой станции трактир.
(VI, 153)
Пушкинское представление имеет оборотную сторону: оно насквозь иронично. Зачем-то через пятьсот лет упорных трудов Россию «пересекут» соединенные друг с другом «шоссе», непонятно для чего «раздвинут горы» и какие-то «дерзостные своды» пророют под водой — все это, как показал М.П. Алексеев, имеет своим источником газетные и журнальные сообщения пушкинского времени [Алексеев 1972: 130—159]. В нагромождении «новшеств» чувствуется их явная бессмысленность и совершенное отрицание конечной цели прогресса: «пророем», «раздвинем», а дальше все сводится к неизбежному «трактиру» — стоило ли так усердствовать в пятисотлетней муравьиной работе?
Не менее ироничным оказывается и упование «на авось» применительно к «исправлению» дорог в «Х песне»: оно не соответствует действительным «надеждам» Пушкина. но ведь и два других упования на тот же «авось», находящиеся рядом, носят такой же игровой характер.
Вот прославленный «арендами» «ханжа», которому неплохо бы «запереться в монастырь». Роль «ханжи» (т.е. «облеченного властью набожного мошенника, одинаково увлеченного и очередным мистическим поветрием, и радостями более материальными — извлечением дохода» — [Набоков 1998: 647]) в разных комментариях оспаривают два «кандидата»: известные мистики и обскуранты «александровской» эпохи А.Н. Голицын и М.Л. Магницкий. Приводятся существенные «доказательства» в пользу как того, так и другого… но к осени 1830 г. ни Голицын, ни Магницкий уже не представляли никакой опасности для русского просвещения и культуры: первый еще в 1824 г. был отставлен с высших должностей министра народного просвещения и обер-прокурора синода (и остался лишь «безобидным» начальником Почтового департамента), а второй в марте 1826 г., после ревизии Казанского университета, был уволен с наложением ареста на имущество и сослан в Ревель. Так что ни о каком «монастыре» для них речи быть не могло.
Если же предположить, что Пушкин ведет речь о последних годах правления Александра I, то при чем здесь появляющаяся в соседних стихах «Сибирь», которая должна «возвратить» кого-то? Кого именно? Обыкновенно этот «авось» связывается с восклицанием Пушкина в письме к П.А. Вяземскому от 5 ноября 1830 г.: «Каков государь? Молодец! Того и гляди, что наших каторжников простит…» (XIV, 122). Здесь имеется в виду «рыцарское» поведение Николая I, посетившего в октябре 1830 г. холерную Москву. Но могут ли совмещаться в соседних стихах два разновременных «авося»?
Кроме того, в контексте пушкинского пожелания о возвращении декабристов странным кажется слово «семействам». Ведь вернуть декабристов «семействам» — это значит заменить им сибирскую каторгу и ссылку, допустим, ссылкой в родовые имения. Это как будто не соответствует устремлениям Пушкина, ценившего их именно в качестве необходимых для России дворянских деятелей нового поколения…
Словом, «авоси», представленные в сохранившихся стихах «десятой главы», выглядят, по меньшей мере, странно. как, впрочем, и начальное представление «авося» в качестве «шиболета народного». Уже давно отмечено, что Пушкин в данном случае следовал за Байроном, назвавшим в 11-й песне «Дон-Жуана» английским «шиболетом» («национальным паролем») междометие «god damn» [Лотман 1980: 402—403]. Но Байрон в этом случае следовал за Бомарше, который в знаменитом монологе героя «Женитьбы Фигаро» расширительно представил возможности английского «god damn». Фигаро подробно повествует о том, что это междометие может заменить любое английское высказывание. Но что-то подобное про «авось» утверждать было бы нелепо.В данном случае авось выполняет особенную организующую функцию, семантически объединяющего знака всего повествования «Х песни», во всяком случае, сохранившихся 17 строф. Пушкин читал их нескольким верным друзьям (Вяземскому, А.И. Тургеневу, П.А. Катенину), представляя их при этом как фрагменты («только отрывки») именно «Х песни» романа в стихах, «предполагаемой» (Вяземский), но невозможной для печати: «…она останется надолго под спудом» (Тургенев). В восприятии друзей поэта соединение «славной хроники» и «прелестных характеристик русских и России» возникало под знаком мнимого «шиболета народного» — всеобъемлющей и всегда обманывающей надежды на авось.
В общем виде эта «надежда», которой привык жить Онегин, была представлена еще в известной нецензурной «шалости» Вяземского «Сравнение Петербурга с Москвой», созданной еще в «первой молодости» поэта (1810), но оказавшейся одной из причин царского недовольства поэтом и через десять лет (см.: [Вяземский 1880: 95]). Она завершалась «пуантом», адресованным столице империи:
У вас авось —
России ось —
Крутит, вертит,
А кучер спит.
Пушкин, конечно же, знал знаменитую «шалость» Вяземского и вовсе не случайно в последних стихах своей «славной хроники» представил того же «спящего кучера»:
<Россия>
Наш Ца<рь> дремал.
(VI, 526)
Находящиеся в центральной части «хроники» строфы про «авось» выделяются из общего характера «хроники» именно тем, что явно не «привязаны» к каким-то конкретным, хронологически выделяемым «событиям». Пушкин дает в них «лирическое отступление» особого, почти «абсурдного» рода, соединяя данности прошлого и настоящего под общим знаком «авося», определяющего всё в России и шевелящего ее «ось».
Под этим знаком и характеристика деяний, предшествовавших «возмущению 1825 года», дана тоже с явной установкой на абсурд и на «авось» всего происходящего. собрания «за рюмкой русской водки» «у беспокойного Никиты, у осторожного Ильи», «вдохновенные бормотания», «цареубийственные кинжалы». И — как итог:
[Всё это было только] скука
Безделье молодых умов
Забавы взрослых шалунов.
(VI, 525—526)
На фоне «грозных» и даже «вулканических» (но все равно ничего принципиально не изменивших) европейских потрясений «эти заговоры между Лафитом и Клико» кажутся только «забавами», предпринятыми от «безделья» и рассчитанными на тот же авось.
Отсюда вытекают и весьма нетривиальные идеи текста «Х песни».
1. Движение декабристов было прямым следствием неумной и недальновидной внутренней и внешней политики, проводившейся «владыкой слабым и лукавым», и вполне естественной реакцией на эту политику.
2. Движение это, в духе времени, захватило широчайшие круги русских дворян: в нем так или иначе приняли участие все «молодые умы» России, которые — тоже в духе времени — полагались не на что-то реальное, а на «русский авось». Если в европейских «потрясениях» была какая-то логика, то в российских «забавах» искать ее бессмысленно.
3. Завершилось это движение «Сибирью» — наказанием для его участников; но жертвы этого наказания были выбраны тоже «на авось»: одни (как «беспокойный Никита» — Муравьев) попали в Сибирь, для других (как для «осторожного Ильи» — Долгорукова) молодые «забавы» остались без последствий. Потому что в противном случае правительству пришлось бы арестовывать и наказывать всех «молодых умов» — что же тогда осталось бы для России? Последняя идея очень понравилась Вяземскому, который занес в дневник и подчеркнул именно цитату «у вдохновенного Никиты, у осторожного Ильи».
4. «Авось» как принцип исторического развития России вполне соответствует принципу организации жизни героя романа в стихах — Онегина. Именно его глазами представлены поименованные по именам персонажи «Х песни»: «друг Марса, Вакха и Венеры» Лунин, «меланхолический Якушкин», «хромой Тургенев», Пушкин, читающий на собраниях «взрослых шалунов» свои крамольные ноэли. Онегин, иронически представивший эти «сходки», уже «перерос» «революционный романтизм» названных персонажей.
Шесть лет спустя, в последнем стихотворении на «лицейскую годовщину» («Была пора: наш праздник молодой…») Пушкин предпринял попытку решить вопрос, как воздействуют на сознание умного человека те разнородные и неразумные исторические события, которые предстают перед ним: «Чему, чему свидетели мы были?..» Эта попытка была поставлена уже в ином тоне и ключе — без всякого «авося». Но и она — осталась незавершенным «текстом для себя».
«Уж не пародия ли он?»
В черновом проекте предисловия к восьмой и девятой главам «Онегина», датированном 28 ноября 1830 г. (то есть уже после того, как была «сожжена Х песнь»), Пушкин собирался прямо намекнуть на существование некоего «потаенного» текста, имеющего отношение к роману в стихах: «Вот еще две гл<авы> “Евгения Онегина” — последние по крайней <мере> для печати…» (VI, 541). Но все попытки «угадать» в сохранившемся «тексте для себя» какой-то «сюжет» или намек на продолжение жизни героя (вступление его в то же декабристское общество) изначально бессмысленны. В тексте «для себя» Пушкину это было не нужно. Задачи подобного текста не столько сюжетные, сколько внутренние, собственно поэтические.
После завершения большой работы автор всегда испытывает сомнения — и некий текст для себя, призванный проверить «онегинский» комплекс на представлении общего исторического фона глазами разочарованного и охлажденного жизнью героя, был собственно авторской поверкой смысла всего романа. Такого рода текст и не претендовал на то, чтобы занять какое-то определенное место в структуре романа в стихах, — он был предназначен для того, чтобы оценить героя на фоне того времени, в котором он живет: эпохи, представленной его глазами.
В соответствии с высказанной Ю.М. Лотманом гипотезой, тот текст, который Пушкин условно обозначил как «Х песнь», был — на фоне девяти уже существовавших в сознании поэта песен — необходимым «приложением», призванным представить героя как «общественного деятеля», и был попыткой всесторонне отразить его раздумья о прошлой и современной России — хотя бы в отрывочных «альбомных замечаниях». «Альбом Онегина» был единственной большой написанной частью романа в стихах, которая не нашла места в завершенном тексте, и поэт решил расширить его в «затекстовой» части.
Но как только Пушкин стал набрасывать замечания «от лица» злоязычного Онегина, он столкнулся со сложной проблемой. Характеристики событий и лиц, данные Онегиным, должны были казаться гораздо более острыми, чем те, которые исходили от самого автора. Это обстоятельство специально подчеркивалось еще в первой главе романа (строфы XLV—XLVI), где автор специально сопоставлял «резкий, охлажденный ум» героя с собственным: «Я был озлоблен, он угрюм». Эта «угрюмость» определяла и отсутствие «очарований», и «змию воспоминаний», и «раскаянье», и особое отношение к окружающим. Автора, и самого не очень «ласкового» в оценках, смущает язвительность героя:
Сперва Онегина язык
Меня смущал; но я привык
К его язвительному спору,
И к шутке, с желчью пополам,
И злости мрачных эпиграмм.
(VI, 23—24)
Подобные язвительные споры, желчные шутки и мрачные эпиграммы по адресу современных событий, людей и политических деяний непременно должны были отразиться в интимном «альбоме» («искреннем журнале») героя, который Пушкин стал обдумывать в сентябре—октябре 1830 г. в Болдине. Собранные воедино, они в какой-то момент достигли некоего «предела»: подобных замечаний нельзя было не только напечатать, но и прочитать вслух в неподготовленной аудитории. Поэтому автор в знаковый для него «день Лицея» рассудил за лучшее сжечь наброски «Х песни». Сжечь не потому, что испугался возможных преследований или жандармов, которым эти «записи» могли попасться на глаза, а потому, что такого рода словесная «злость», «смущающая» даже автора, не должна появляться в литературном творении. Кроме того, она вступала в противоречие со всей творческой атмосферой болдинской осени — атмосферой гармонии и любви к людям. Пушкин «сжег Х песнь» прежде всего потому, что на этом этапе был не удовлетворен ею.
Обыкновенно представляется, что «сожженная» «Х песнь» содержала те самые стихи, которые «частично» сохранились в «шифрованной» записи. В реальности, думается, все было много сложнее.
«Альбом Онегина» в седьмой главе романа отражал героя таким, каким тот предстал в первой главе. Прочитав его (или познакомившись с кругом чтения Онегина), Татьяна «угадывает» его характер: «Ужели слово найдено?» Но для чего разгадка нужна: Пушкин вовсе не стремился представить героя романа в стихах как какую-то «шараду». Тем не менее Татьяне в качестве «ключевого слова» приходит слово необыденное: «Уж не пародия ли он?» В самом деле:
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
(VI, 149)
Но почему именно пародия? И по отношению к какому «образцу» — пародия? Закономерным кажется вопрос, заданный И.Л. Альми: «Вправе ли мы называть озарением мысль, которую нельзя принять за истину, “открытие”, отказывающее онегину в подлинности?» [Альми 1998: 73]. И что такое «Москвич в Гарольдовом плаще»? «Москвич» — это не обыденное называние «жителя Москвы», а некий устойчивый символ «московского» бытового консерватизма, противостоящего петербургским «новациям». «Москвичи» в представлении Пушкина — это те, которые еще с прошлого века помнят «обеды, домашний театр и роговую музыку» (VIII, 416), которые сохранили в своей памяти ушедшие в небытие особенности древней столицы, составляющей консервативную оппозицию Петербургу: «Невинные странности москвичей были признаком их независимости» (XI, 246). Попадая в систему «петербургских» ценностей, москвичи и ведут себя по-особому, наподобие Чарского из «Египетских ночей»: «В своей одежде он всегда наблюдал самую последнюю моду с робостию и суеверием молодого москвича, в первый раз отроду приехавшего в Петербург» (VIII, 264). Символический «Гарольдов плащ» на рыхлом, распаренном «москвиче» должен смотреться неестественно…
Но ведь Онегин — не «москвич», а, напротив, коренной петербуржец: он «родился на брегах Невы», в детстве и юности гулял «в Летнем саду», а потом «восемь лет» «убил» на петербургские бульвары, рестораны, театр, балы и катания в «дрожках» по Мильонной. До своего «путешествия» он даже, кажется, ни разу и не бывал в Москве… а сама Татьяна, напротив, «москвичка», во всяком случае, по рождению: в строфе XLIV седьмой главы «московские кузины» вспоминают о том, как одна ее «крестила», другая «на руки брала», третья «за уши драла», четвертая «пряником кормила» (VI, 158). Такое число «бабушек», которые вспоминают Татьяну-ребенка, попросту не могло перебывать у Лариных в деревне…
Да и «Гарольдов плащ», если разобраться, «сидит» на Онегине вполне ладно и отнюдь не комично: он не только в петербургских гостиных является, «как Child-Harold, угрюмый, томный» (VI, 21), но и в деревне живет «прямым» Чильд-Гарольдом (VI, 91) — это его естественное состояние. Тогда при чем же здесь пародия? Ведь получается, будто герой романа в стихах — просто-напросто позер, живущий по типу «модных» литературных лозунгов типа: «Кто жил и мыслил, тот не может / В душе не презирать людей…»
Кажется, в том, что пушкинский герой предстает в качестве пародии, повинна исходная «книжность» его представления: в своих деяниях он вроде бы подражает книжным «образцам». Но в самом начале автор указывал на «неподражательную странность» Онегина. И где искать «истоки» этой «книжности»? В юности герой пробовал читать, — но «всё без толку» (VI, 23), и «издавна чтенье разлюбил», исключив «из опалы» творения Байрона и «еще два-три романа» (VI, 148). По маргинальным пометам на этих «двух-трех романах» Татьяна, в сущности, и восстанавливает облик Онегина как пародии.
Анна Ахматова в статье «“Адольф” Бенжамена Констана в творчестве Пушкина» (1936) указала многочисленные примеры «перенесения Пушкиным из “Адольфа” в “Евгения Онегина” психологической терминологии любовных персонажей» [Ахматова 1990: 52—79]. Но облик светского соблазнителя Адольфа в романе Констана, как подметил В.В. Набоков, «едва ли материален»: «В отличие от Адольфа Онегин (если на минуту принять его за “реальное” лицо) на глазах растекается и распадается, лишь только начинает испытывать чувства, лишь только покидает очерченные его творцом пределы существования в виде яркой пародии и средоточия многочисленных, к делу не относящихся и вневременных материй. С другой стороны, как физическое лицо Онегин, по сравнению с серым оттиском Адольфа, на редкость объемен...» [Набоков 1998: 502].
Что это за странная пародия, которая получилась «объемнее» и «ярче», чем пародируемый объект? Другое дело, когда Татьяна делала вывод о пародии после знакомства не с книгами, а с альбомом Онегина: именно «Альбом...» и представленная в нем «история любви» героя к R.C. создавала правомерность обозначения этой личности как пародии. Объектом пародирования оказывался стиль поведения человека из высшего света, который Онегин, презирая и находя «тесным» на словах, принимает как норму в тех случаях, когда дело заходит о конкретных деяниях и увлечениях. Объявляя некий словесный «вызов» высшему свету, он вовсе не «отрицает» его своим существованием, а именно это обстоятельство составляло причину трагического существования Пушкина в последние годы жизни, и именно поэтому он, как точно подметила А. Ахматова, вытеснил из нашей памяти множество посредственных представителей этого «света»: «Теперь настало время вывернуть эту проблему наизнанку и громко сказать не о том, что они сделали с ним, а о том, что он сделал с ними» [Ахматова 1990: 16]. Онегин на что-то подобное не был способен и потому вольно или невольно остался «пародией», никому не опасной «белой вороной».
Пушкин в Болдине, завершив роман, как будто еще не определился со «знаком», с которым собирался представлять своего героя: знак приятия либо неприятия, условно говоря, «плюс» или «минус». В «болдинской» редакции последних глав (восьмой и девятой) Онегин выступил с безусловным «отрицательным» знаком: это проявилось не только в отношении к нему Татьяны, но и во множестве иронических деталей рассказа об его путешествии (Онегин, завидующий разбитому параличом «тульскому заседателю», — VI, 199) и т.п. Видимо, такая «однозначная» позиция не удовлетворила Пушкина, включившего в окончательный текст письмо Онегина и смягчившего ряд частных характеристик.
Важнейшим показателем «речевой личности» Онегина становится ее «эпиграмматичность». Эпиграмма в данном случае — это не обозначение литературного жанра, а указание на речевой портрет говорящего, лапидарного и точного в высказываниях — и вместе с тем насмешливого, язвительного, желчного, саркастичного. Это речь «озлобленного» человека, часто в этом состоянии изрекающего верные наблюдения, но чересчур «заостренная» в сравнении с речью, идущей от авторского «я».
Те немногие случаи, в которых Пушкин приводит примеры онегинских «охладительных слов», достаточно ярки и в отношении построения лаконичных речевых конструкций («Куда? Уж эти мне поэты!» — VI, 51), и в способах характеристики окружающих лиц. Так, еще не видевши Ольги, он уже определяет ее как «Филлиду» («Предмет и мыслей, и пера, / И слез, и рифм et cetera?» (VI, 52), а еще не побывав у Лариных, уже готов рисовать на них «карикатуру», подобную тем, что составляет на татьяниных именинах на ларинских «гостей» (VI, 51, 111). Увидев Ольгу, он не может удержаться от «эпиграммы» насчет «глупой луны», а объяснение с Татьяной начинает достаточно грубым предупреждением: «Не отпирайтесь» (VI, 77). Словом, он не только «в душе» «презирает людей», но и не особенно скрывает это в речевом обхождении.
На показательный пример отличия повествовательной манеры автора и манеры Онегина в «Альбоме…» указал Ю.Н. Тынянов. когда в структуре четырехстопного ямба романа оказывается имя, которое по каким-то причинам нельзя указать полностью, Пушкин, используя инкогнитоним, сохраняет это имя «в произношении»: «У скучной тетки Таню встретя, / К ней как-то В…. подсел» (часто в изданиях так прямо и раскрывают: «Вяземский» — VI, 160); «Второй ***, мой Евгений…» («Чадаев» — VI, 15) и т.д. Онегин в этом случае поступает иначе:
Боитесь вы графини —овой —
Сказала им Элиза К.
Да, возразил NN суровый,
Боимся мы графини —овой,
Как вы боитесь паука.
(VI, 614)
«Обычный прозаический прием сокращения фамилий начальной буквой или окончанием (Элиза К., графини —овой), — пишет Тынянов, — здесь приобрел совершенно необычное значение именно вследствие внедрения в стих, вследствие того, что эти обрывки слов не только играют роль самостоятельных слов, но, рифмуя с полными словами (—овой — суровый; Элиза К. — паука), приобретают даже тень какого-то смысла» [Тынянов 1977: 74]. Подобное допускается только в устах Онегина. Пушкин, даже когда демонстрирует «собрание насекомых» — жалких литераторов, которые именуются то «мелкая букашка», то «злой паук» (III, 204), — сохраняет возможность назвать человека по имени. Онегин настолько «презирает людей», что они в его сознании не существуют в качестве полноценных «чужих я»: они и тут попросту остаются «обрывками».
Всеразъедающая ирония, свойственная речевой личности Онегина, не ограничивается представителями высшего света и «нашими дамами»: столь же насмешливо он готов оценивать и «забавы» декабристов, и ранние «ноэли» самого Пушкина. Именно «онегинский» стиль и вызвал обиду выведенного в «Х песне» Николая Тургенева, который даже внешне воспринят с «онегинской» лапидарностью: «хромой Тургенев» — VI, 524). Онегин попросту не способен выйти на возможность «простых речений»: он уже по своему характеру даже при болящей «голове» привык «сыпать острые слова» (VI, 21). Не случайно многие из «острых слов», вошедших в «Альбом Онегина», Пушкин отбирает из «невостребованных» черновых строф романа в стихах. Но, написанные от лица автора, они непременно сокращаются, лишаются содержательных «полутонов», — и оказываются «чужим словом».
«Последняя глава» и «странствие»
Итак, «Х песнь» 19 октября 1830 г. была сожжена, но рукописи, как известно, «не горят». Несуществование их в письменных источниках не означает их несуществования как таковых. Пушкин в ряде случаев предпочитал не оставлять следов написания того или иного поэтического текста, но сам текст продолжал существовать в его памяти. Так же получилось и с «Х песнью»: поэт ее сжег и в то же время запомнил. Он не мог ее опубликовать, не мог даже часто читать вслух или «вставлять» в текст написанного романа в стихах, но помнил. и, соответственно, вольно или невольно работал над ней. При первом удобном случае он знакомит с готовыми отрывками «Х песни» Вяземского, прочитав ему «славную хронику».
Летом 1831 г. Пушкин получил редкую возможность общаться «напрямую» с царем — забрезжила надежда опубликовать «Х песнь». Пушкин ее оформляет, передает Николаю I для «редактирования» — и получает отрицательный ответ. Становится ясно, что этот текст «останется надолго под спудом» (формула А.И. Тургенева, который, скорее всего, просто повторил в письме пушкинскую фразу). В октябре Пушкин сочиняет «Письмо Онегина к Татьяне», а уже 16 ноября 1831 г. датируется цензурное разрешение «Последней главы Евгения Онегина».
Это издание «Последней главы…» выглядело своеобразным вызовом. Выпуская под таким заглавием восьмую главу (и оставляя в качестве «пропущенной» главу «Странствие»), автор «Онегина» как будто демонстрировал, насколько надоели ему мытарства по изданию романа. Н.П. Смирнов-Сокольский обратил внимание на то, что «цензурное разрешение на последней главе не “удельное”, а “земское”, что, по терминологии самого Пушкина, значило — не бенкендорфовское, дающее гриф “с разрешения правительства”, а обыкновенное, существовавшее для всех писателей» [Смирнов-Сокольский 1962: 286]. Это был тоже, в сущности, вызов: попытка Пушкина уклониться от «высочайшей» цензуры немедленно вызывала грозный запрос бенкендорфа. Но Пушкину отчего-то важно было предстать в данной ситуации «частным лицом».
Запрещение «Х песни» определило и «пропуск» главы «Странствие», тем более вызывающий, что значительная часть главы была уже опубликована: описание Одессы (созданное еще в 1825 г.) появилось в 1827 г. в «Московском вестнике», а в январе 1830 г. Пушкин открыл «крымским» отрывком из этой главы («Прекрасны вы, брега Тавриды…») первый номер «Литературной газеты». Но «Последняя глава Евгения Онегина» открывалась «Предисловием»:
«Пропущенные строфы подавали неоднократно повод к порицанию и насмешкам (впрочем, весьма справедливым и остроумным). Автор чистосердечно признается, что он выпустил из своего романа целую главу, в коей описано было путешествие Онегина по России. От него зависело означить сию выпущенную главу точками или цыфром; но во избежание соблазна решился он лучше выставить, вместо девятого нумера, осьмой над последней главою Евгения Онегина, и пожертвовать одною из окончательных строф:
Пора: перо покоя просит;
Я девять песен написал;
На берег радостный выносит
Мою ладью девятый вал —
Хвала вам, девяти каменам, и проч.»
(VI, 642)
В этом предисловии Пушкин представляет «пропущенную» главу как абсолютно завершенную (что закрепляется фрагментом «одной из окончательных строф», всякие следы которой отсутствуют в рукописях «Онегина»). Но — в своем «чистосердечном признании» никак не объясняет причин, по которым эта «целая», завершенная глава, фрагменты которой (почти четырнадцать строф!) были уже опубликованы в периодических изданиях, — оказалась «выпущена»? В 1833 г., в полном издании романа Пушкин «восстановил» некоторые «отрывки из путешествия Онегина», объяснив, что «решился выпустить» уже готовую главу «по причинам, важным для него, а не для публики» (VI, 197). Что это могли быть за «причины»?
Пушкин сослался на разговор с П.А. Катениным, происшедший 18 июля 1832 г. на даче графа В.В. Мусина-Пушкина-Брюса: «П.А. Катенин (коему прекрасный поэтический талант не мешает быть и тонким критиком) заметил нам, что сие исключение, может быть и выгодное для читателей, вредит однако ж плану целого сочинения; ибо чрез то переход от Татьяны, уездной барышни, к Татьяне, знатной даме, становится слишком неожиданным и необъясненным. — Замечание, обличающее опытного художника. Автор сам чувствовал справедливость оного…» (VI, 197).
Сам Катенин в «Воспоминаниях о Пушкине» привел несколько другую версию своей аргументации: «Тут же заметил я ему (Пушкину. — В. К.) пропуск (главы “Странствие”. — В. К.) и угадал, что в нем заключалось подражание “Чайльд-Гарольду”, вероятно, потому осужденное, что низшее достоинство мест и предметов не позволяло ему сравниться с байроновым образцом. Не говоря мне ни слова, Пушкин поместил сказанное мною в примечании…» [Катенин 1981: 212—213]. В другом месте (в письме к П.В. Анненкову от 24 апреля 1853 г.) Катенин указал: «Об осьмой главе Онегина слышал я от покойного в 1832 году, что сверх Нижегородской ярманки и Одесской пристани Евгений видел военные поселения, заведенные гр. Аракчеевым, и тут были замечания, суждения, выражения, слишком резкие для обнародования, и потому он рассудил за благо предать их вечному забвению и вместе выкинуть из повести всю главу, без них слишком короткую и как бы оскудевшую» [Попов 1940: 231].
Между тем, в рукописях «Онегина» не сохранилось никаких следов строф о военных поселениях — а глава «Странствие» действительно выглядит «оскудевшей». Сохранившиеся строфы могут быть сведены в относительно законченное повествование, состоящее из 34 строф (из которых одна неполная): до обыкновенного объема, соотносимого с прочими «онегинскими» главами, не хватает 10—15 строф. В этих 34 строфах не содержится ничего «слишком резкого для обнародования». А поскольку никаких материалов для восстановления семантики несохранившихся строф не осталось — поневоле возникают содержательные вопросы по всему остальному.
Содержание «пропущенной» главы вполне определяется пушкинской формулой: «Путешествие Онегина по России». Онегинский маршрут определяют последовательно упомянутые топосы: Петербург — Новгород — Валдай — Торжок — Тверь — Москва — Нижний Новгород (Макарьев) — Волга — Астрахань — Кавказ — Кубань — Тамань — Крым — Одесса — Петербург. По некоторым из этих маршрутов Пушкин проезжал еще в юности; в иных местах («торговый Астрахань») так никогда и не побывал. Мотивировка этого путешествия, связанная с «хандрой» героя, представлена в XIII строфе последней главы. Важно подчеркнуть, что эта строфа была написана непосредственно при подготовке к изданию «Последней главы…», когда Пушкин уже принял решение об исключении из романа главы «Странствие»: «Им овладело беспокойство, / Охота к перемене мест…»Обратим внимание: в окончательном варианте странствие Онегина начиналось не в Петербурге, а в деревне: «Оставил он свое селенье, / Лесов и нив уединенье…» Таким же образом автор предполагал «отправить» героя в путешествие еще в черновике седьмой главы: это путешествие тоже планировалось как «странствие» прямо из деревни:
Убив неопытного другаТомленье [сельского] досуга
Не мог онег<ин> [перенесть]
[Решился он в кибитку сесть] —
[Раздался] колокольчик звучный
Ямщик удалый засвистал
И наш Онегин поскакал
[Искать отраду жизни] скучной —
По отдаленным сторонам
Куда не зная точно сам.
(VI, 442)
И в первоначальном, и в окончательном сообщении об онегинском «странствии» не указывалось, что это непременно «путешествие по России». Напротив, как будто предполагалось странствие «по отдаленным сторонам», то есть за границу. Такое путешествие было в «бытовом» отношении естественнее и походило на обыкновенные вояжи русских дворян: людей посмотреть и себя показать. Интересно, что и в тексте последней главы то обстоятельство, что Онегин «странствовал» по России, а не по загранице, не указывается. более того, естественнее предположить, что герой был-таки за границей: «Он возвратился и попал, / Как Чацкий, с корабля на бал» (VI, 171). «С корабля» — то есть добирался домой самым удобным и принятым в те времена водным путем: из Любека по Балтийскому морю. «В окончательном тексте, — отмечает В.В. Набоков, — нет никаких утверждений, исключающих возможность возвращения Онегина в Россию из путешествия по Западной Европе» [Набоков 1998: 544].
Да и срок, отведенный для этого путешествия, — явно велик для представленного маршрута. Пушкин называет точные «линейные» даты, соотнося их с собственной биографией. Действие первой главы происходит «в конце 1819 года» (VI, 638). В Крыму Онегин появляется «спустя три года, вслед за мною» (VI, 201; вариант: «три года после вслед за мною» — VI, 489), то есть во второй половине 1823 г. а из Одессы уезжает «к невским берегам» одновременно с отъездом Пушкина из Одессы в Михайловское (1 августа 1824 г.). Таким образом, Онегин «странствовал» не менее трех лет.В окончательном варианте «Последней главы…» герой Пушкина прямо сопоставлен с героем Грибоедова: «Как Чацкий…» Причины, заставившие «странствовать» грибоедовского Чацкого, — чисто «внутренние»: «Вот об себе задумал он высоко: / Охота странствовать напала на него…» [Грибоедов 1995: 24]. В представлении Софьи, «охота странствовать» становится показателем самодовольства («гордыни»), несовместимым с «любовью». Онегиным тоже овладела «охота к перемене мест» — та же «охота странствовать». Путешествие Онегина, как и странствие Чацкого, продолжалось три года (Чацкий к тому же «три года не писал») — и Онегин, как Чацкий, мог бы сказать: «Хотел объехать целый свет, / А не объехал сотой доли». Чацкий, по выражению Фамусова, «обрыскал свет», но где именно «рыскал»?
То обстоятельство, что Чацкий путешествовал за границей, в массовом сознании внедрилось благодаря пушкинскому сопоставлению Онегина с грибоедовским героем. ни на каком «корабле» он в «Горе от ума» не путешествовал (только на почтовых лошадях по снежной пустыне). а выдуманный «корабль» Чацкого понадобился Пушкину именно для того, чтобы складывалось впечатление, будто Онегин вернулся именно из европейских скитаний. Бытовая обстановка действия восьмой главы несет множество примет именно европейского образа жизни и образа мыслей героев. Вместо привычного бала пушкинская муза «впервые» попадает «на светский раут», в «тесный ряд аристократов», к «олигархическим беседам» с «послом испанским» и т.д. Возможные онегинские «маски» прямо соотносятся с новейшей европейской культурой: «Кем ныне явится? Мельмотом, / Космополитом, патриотом, / Гарольдом, квакером, ханжой?..» (VI, 168). А «новая» Татьяна может быть определена теми европейскими словечками, которые поэт «не знает как перевести»: она совершенная comme il faut и ни в коем случае не vulgar (VI, 171—172). И книги, которые читает Онегин, и модные романсы, которые он «мурлыкает» у камина (VI, 182—184), — всё как будто «привезено» из Европы.
Вместе с тем, пристрастия Онегина к Европе как будто не соответствуют пристрастиям самого Пушкина. В мемуарных заметках П.А. Вяземский несколько раз указывает на странные и неординарные мнения Пушкина «в так называемых чисто русских вопросах»: «Он, хотя вовсе не славянофил, примыкал нередко к понятиям, сочувствиям, умозрениям, особенно отчуждениям, так сказать, в самой себе замкнутой России, не признающей Европы и забывающей, что она член Европы, то есть допетровской России…» [Пушкин в воспоминаниях 1985а: 111]. Вяземский констатировал странную историософскую ориентацию Пушкина: не будучи «славянофилом», он тем не менее тянулся не к европеизированной России, а к допетровской Руси. При этом Вяземский не мог не знать, что Пушкин неоднократно стремился уехать из России именно в Европу; Пушкин сам недвусмысленно писал ему об этом: «Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры и бордели, — то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-ой песне онегина я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? В нем дарование приметно — услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай-да умница» (из письма от 27 мая 1826; XIII, 280).
В «пропущенной главе» Онегин принципиально собирался поездить именно по Руси, а «Европу ненавидит» и демонстрирует к ней вполне снисходительное отношение. Так, среди торговцев на Макарьевской ярмарке появляется «европеец», торгующий «поддельными винами» и открывающий ряд фальшивых ярмарочных изделий, которые олицетворяют «меркантильный дух» времени. И вместе с тем — символизирует «западную» цивилизацию, которая традиционно считалась более просвещенной и «продвинутой» по сравнению с Россией. Но «просвещает» она Россию пока что лишь с помощью «поддельных вин».
Возможность европейского путешествия Онегина не только не противоречила содержанию или тональности романа, но буквально «напрашивалась», начиная с первой главы: «Онегин был готов со мною / Увидеть чуждые страны…» (VI, 26). Более того: Пушкин долго «прикидывал», как бы ему «обойти» описание этих «чуждых стран» — ведь нельзя же описывать современную Европу, не побывав в ней! — и в конце концов убрал из романа главу «Странствие» именно для того, чтобы создать впечатление, будто герой побывал в Европе (а поэт — просто опустил детали этого пребывания).
Не случайно Пушкин начал работу над главой «странствие» со строф, посвященных Одессе: в представлении поэта это «город европейский» (XIII, 74), где можно «подышать чистым европейским воздухом» (XIII, 31, 67). В «Онегине» первым признаком Одессы становится то, что «там всё Европой дышит, веет…» (VI, 201). Представление Пушкина о Европе соотносилось с обликом Одессы, — но он постоянно помнил, что именно в Одессе-то и не мог ужиться с той чиновной системой, которая была «сконструирована» по европейскому образцу «милордом Уоронцовым»; последний «предпочитает первого английского шалопая всем известным своим соотечественникам» (XI, 23).
В черновом «болдинском» предисловии к роману Пушкин изначально выражал сомнение, включать ли в него главу «Странствие». 18 сентября глава была завершена, а уже 28 ноября (в предисловии) автор счел необходимым заметить: «Осьмую главу я хотел было вовсе уничтожить и заменить одной римской цыфрою, но побоялся критики. к тому же многие отрывки из оной были уже напечатаны» (VI, 541). Только что завершенная глава не удовлетворила автора, прежде всего, по «содержательной» причине: Онегина не удалось «отправить» туда, куда это требовалось по замыслу, — в «чуждые страны».
Кроме того, написанная глава оказалась очень неоднородной по формам повествования. исходя из сохранившихся строф, она «распадалась» на четыре части.
Первые четыре строфы, представлявшие собою «оправдательную» характеристику Онегина («Блажен, кто смолоду был молод…» и т.д.). Они впоследствии вошли (в несколько измененном виде) в последнюю главу (строфы Х—XII).
Следующие 11 строф (5—15) как раз и представляют собой сжатое, сдержанное описание (или простое перечисление) основных пунктов путешествия Онегина по России: Новгород, Валдай, Торжок, Тверь, Москва и т.д. В основной текст «Отрывков…» Пушкин поместил только «нижегородскую» («Макарьевскую») строфу (с упоминанием «европейца») и три «кавказские» строфы, в которых наиболее остро изображена онегинская «тоска»: объятый ею герой завидует даже параличному больному. В этих строфах действительность предстает в восприятии Онегина — автор еще не берет слова.
Строфы с 16 по 29 — это как раз те, которые «были уже напечатаны». Они посвящены Тавриде и Одессе, которые восприняты исключительно глазами поэта (лирического «я»). В них даются развернутые авторские отступления, посвященные творческой эволюции поэта и «дню автора», так или иначе сопоставленному с «днем Онегина», развернутым в самом начале романа (см.: [Чумаков 1999: 32—39]).
А завершается глава сообщением о начале «михайловской ссылки» Пушкина, возвращающим нас к линейному «календарю» «Онегина», и лирическим аккордом, воспевающим «приют, сияньем Муз одетый». Эти лирические строфы о Михайловском (написанные в Болдине) в состав художественного текста «Онегина» не вошли.
«Отрывки…» и «Х песнь»
Ю.Н. Чумаков отметил, что венчающие этот текст и следующие уже после Примечаний «Отрывки из Путешествия Онегина» необходимо рассматривать не как «приложение» к основной части, а как необходимую структурную часть, определяющую романное «завершение»:
«Поскольку глава в “Онегине” — отчетливо ощутимая структурная единица, пропуски возможны и на уровне глав. как обычно, это означает не ослабление, а, напротив, нажим, напряжение нерастраченных динамических элементов. Можно предположить, что Пушкин хотел осуществить такой пропуск, “когда выпустил из своего романа целую главу, в коей описано было путешествие Онегина по России” (VI, 197). Но, усложняя первоначальный замысел, он впоследствии вынес фрагменты исключенной главы в конец романа. Со слов автора читатель ретроспективно ощущает потенцию текста между седьмой и восьмой главами, получая затем его фрагменты. Казалось бы, законченный, роман неожиданно продолжается. <…> решение о замене целой главы фрагментами могло быть продиктовано и художественными соображениями.
Будучи фрагментом, “отрывки” не только подчеркивают внесюжетное построение, но как бы стилистически символизируют роман, манифестируя его как сложную систему поэтических эквивалентов. “Пропуски” и перестановки текста, мнимая неоконченность способствуют легкому и непринужденному движению содержания, оставляя “воздух” между свободно лежащими частями романа. Во многом благодаря “Отрывкам из путешествия” “Евгений Онегин” осуществляется как роман открытых и непредвиденных возможностей» [Чумаков 1999: 17—18].Формально «Отрывки…» включают небольшое предисловие (чуть расширенный вариант предисловия к «Последней главе…») и три фрагмента, каждый из которых предварен сухим авторским сообщением, куда именно «едет» герой. Целиком даны три «онегинские строфы», посвященные Кавказу и 14 ранее напечатанных «таврических» и «одесских» строф. Остальные строфы приведены в сокращении, причем сокращение это явно намеренное. открывающая «отрывки…» «нижегородская» строфа в рукописи выглядела так:
Тоска, тоска! Он в Нижний хочет
В отчизну Минина — Пред ним
Макарьев суетно хлопочет
Кипит обилием своим
Сюда жемчуг привез индеец
Поддельны вины европеец;
Табун бракованных коней
Пригнал заводчик из степей
Игрок привез свои колоды
И горсть услужливых костей;
Помещик — спелых дочерей
А дочки — прошлогодни моды
Всяк суетится, лжет за двух
И всюду меркантильный дух.
(VI, 498)
Пушкин опубликовал эту строфу в «усеченном» виде, убрав полтора начальных стиха (выделены нами курсивом). Объяснить это «усечение» цензурными условиями невозможно: та же информация, что герой «едет в Нижний Новгород», предстает в прозаическом сообщении. Пушкин как будто нарочно «урезает» строфу — лишь бы не поместить ее целиком. Так же — с середины строфы — начинается описание «крымских» впечатлений. Автора уже не очень волнует собственно «география» путешествий героя. Он оставляет «за скобками» его «новгородские», «московские», «волжские» впечатления, а соответствующие строфы иногда сокращаются до одного слова:
Тоска!.. (VI, 198)
А следом за подобным нагнетанием «тоски» автор неожиданно переходит от странствий героя к собственным путевым впечатлениям, отнюдь не «тоскливым». Они, напротив, исполнены радости приятия жизни на фоне очаровывающей («при свете утренней Киприды» или «при блеске фонарей и звезд») природы сладостного юга. Роман приобретает собственно лирическую наполненность — и именно она определяет восприятие его финала. Показательно, что собственно онегинские путевые впечатления представлены сухо и отрывочно, «перебиваются» прозаическими указаниями, а авторские даны в целостном, без пропусков, лирическом монологе поэта, исполненном в «онегинских строфах».
Единственное «хронологическое» указание в «Отрывках…» — «Спустя три года вслед за мною…» — соединяет «план автора» и «план героя»: Онегин появляется в Одессе летом 1823 г. — в то самое время, когда живущий там Пушкин начинает работу над романом о нем. «Создается впечатление, что роман начинается за его концом» [Чумаков 1999: 17]. С другой стороны, абсолютный финал «Онегина» — стих «Итак, я жил тогда в Одессе…» — возвращает (в «плане автора») написанный роман к его началу.
Этот блистательный финал Пушкин придумал в конце 1832 — начале 1833 г., когда готовил к изданию «Онегина» в его полном отдельном издании. Прежний вариант финала — с «Х песнью», представлявшей «искренний журнал» героя, — не только остался «под спудом» по цензурным обстоятельствам, но был отброшен за ненадобностью и, наверное, уничтожен — опять-таки не по «житейским», а по художественным причинам. Сохранившаяся «криптограмма» (или, по характеристике В. Набокова, «неуклюжий пушкинский шифр») осталась единственным напоминанием об этом замысле.
Она была предпринята «для себя», в качестве мнемонического приема и была чем-то вроде поэтической «игры». Набоков, специально изучавший «криптограмму», пришел к выводам, «что скоро поэт понял, что с его шифром что-то всерьез неладно, страшно разозлился и забросил это занятие» и «что никаких строф “десятой главы”, помимо зашифрованных, не существовало, а строфа XVII не была зашифрована по той простой причине, что не была закончена» [Набоков 1998: 673]. Поэтому предпринимать какую-либо «реконструкцию» задуманного болдинской осенью 1830 г. финала «Онегина» и доводить, по выражению Б.В. Томашевского, «Х главу до читателя» [Томашевский 1934: 417] кажется бесперспективным занятием.Мы можем лишь констатировать, что задуманный в 1830—1831 гг. финал «свободного романа» был принципиально иным:
— В отличие от «Отрывков…», «Х песнь» рассматривалась именно как приложение к основной коллизии романа в стихах. Целью этого приложения было окончательное определение характера героя, именем которого роман назван. В этом смысле подобное приложение выступало в роли необязательного и предназначалось исключительно для тех читателей, которых действительно заинтересовала личность Онегина.
— Романное повествование переключалось исключительно в «план героя»: приводилось «документальное» слово от лица Онегина, принципиально не похожее на слово автора. Герой демонстрировал не только иной стиль, но и не похожий на автора уровень восприятия окружающего мира и людей в нем.
— Этот «план героя» представал в самой свободной форме объективно-личностного повествования — в форме «искреннего журнала», где герой «изливал душу». Такая форма исключала всякие «расчисления по календарю» и в едином пласте демонстрировала всю прошедшую жизнь Онегина — и эпоху, в которую ему довелось «жить и мыслить».
— Основным структурным ядром записей в этом «журнале» оказывался жанр «эпиграммы» и «карикатуры» на те явления и личности, которые встречались герою. Этот жанр предполагал искаженное восприятие мира, причем сам герой воспринимался окружающими людьми как «пародия» на какой-то неясный оригинал.
— Форма «Альбома Онегина» предполагала не использование «онегинской строфы», а создание самостоятельной свободной конструкции из разнородных по объему фрагментов. Автор романа в стихах, предоставляя «документальное» слово персонажам, предпочитал не использовать «собственной» строфы, предоставляя героям «свободно» изъясняться, исходя из особенностей собственной личности. Такого рода «Х песнь» осталась «под спудом» не «надолго», а насовсем: в конечном итоге роман в стихах Пушкина был воспринят вне «Х песни». «Бессмысленно обсуждать, — заметил В. Набоков в эпилоге к своему комментарию, — возможные причины (политические, личные, утилитарные, художественные), побудившие нашего поэта закончить роман так, а не иначе, но никаких сомнений нет в том, что “Онегин” был его любимым произведением...» [Набоков 1998: 675].
Использованная литература
[Алексеев 1972] — Алексеев М.П. Пушкин: сравнительно-исторические исследования. Л.: Наука, 1972.
[Альми 1998] — Альми И.Л. Статьи о поэзии и прозе. Владимир, 1998. Кн. 1.
[Ахматова 1990] — Ахматова А.А. Соч.: В 2 т. М.: Худож. лит., 1990. Т. 2.
[Бонди 1971] — Бонди С. Черновики Пушкина. Статьи 1930—1970 гг. М.: Просвещение, 1971.
[Бонди 1973] — Бонди С.М. Пояснительные статьи // Пушкин А.С. Евгений Онегин. М.: Детская литература, 1973. С. 249— 303.
[Бочаров 1974] — Бочаров С.Г. Поэтика Пушкина: очерки. М.: Наука, 1974.
[Бродский 1957] — Бродский Н.Л. «Евгений Онегин», роман А.С. Пушкина: пособие для учителей средней школы. 4-е изд. М.: Учпедгиз, 1957.
[Вяземский 1880] — Вяземский П.А. Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1880. Т. 2.
[Вяземский 1884] — Вяземский П.А. Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб, 1884. Т. 9.
[Гофман 1922] — Гофман М.Л. Пропущенные строфы «Евгения Онегина» // Пушкин и его современники. Пг., 1922. Вып. 33/35. С. 1—344.
[Грибоедов 1995] — Грибоедов А.С. Полн. собр. соч.: В 3 т. СПб., 1995—2007. СПб., 1995. Т. 1.
[Гроссман 1924] — Гроссман Л.П. Онегинская строфа // Пушкинист / Ред. Н.К. Пиксанова. М., 1924. Сб. 1. С. 115—162.
[Гуковский 1957] — Гуковский Г.А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М.: ГИХЛ, 1957.
[Даль 1978] — Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1978. Т. 1.
[Дьяконов 1982] — Дьяконов И.М. Об истории замысла «Евгения Онегина» // Пушкин: исследования и материалы. Л.: Наука, 1982. Т. 10. С. 70—105.
[Зенгер 1934] — Зенгер Т. Николай I — редактор Пушкина // Литературное наследство. М., 1934. Т. 16/18. С. 513—536.
[Иезуитова 1989] — Иезуитова Р.В. «Альбом Онегина» (Материалы к творческой истории) // Временник Пушкинской комиссии. Л.: Наука, 1989. Вып. 23. С. 19—31.
[Катенин 1981] — Катенин П.А. Размышления и разборы. М.: Искусство, 1981.
[Кожевников 1988] — Кожевников В.А. Шифрованные строки «Евгения Онегина» // Новый мир. 1988. № 6. С. 259—266.
[Кожевников 1993] — Кожевников В.А. «Вся жизнь, вся душа, вся любовь…»: Перечитывая «Евгения Онегина». М.: Просвещение, 1993.
[Кошелев 2011] — Кошелев А.В. Пушкин в воспоминаниях: проблемы изучения литературных мемуаров. Великий Новгород: НовГУ, 2011.
[Левкович 1974] — Левкович Я.Л. Наброски послания о продолжении «Евгения Онегина» // Стихотворения Пушкина 1820— 1830-х годов. Л.: Наука, 1974. С. 255—277.
[Листов 2000] — Листов В.С. Новое о Пушкине: история, литература, зодчество и другие искусства в творчестве поэта. М.: Стройиздат, 2000.
[Лихачев, Фомичев 1995] — Лихачев Д.С., Фомичев С.А. Вступительная статья // Пушкин А.С. Рабочие тетради. СПб.; Лондон, 1995. Т. 1. С. 5—15.
[Лотман 1980] — Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: комментарий. Пособие для учителя. Л.: Просвещение, 1980.
[Лотман 1987] — Лотман Ю.М. О композиционной функции «десятой главы» «Евгения Онегина» // Пушкинские чтения в Тарту: Тез. докл. науч. конф. 13—14 января 1987 г. Таллин, 1987. С. 3—7.
[Михельсон 1994] — Михельсон М.И. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии: сборник образных слов и иносказаний. М., 1994. Т. 1.
[Набоков 1998] — Набоков В. Комментарий к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб.: Искусство-СПб., 1998.
[Попов 1940] — Попов П.А. Новые материалы о жизни и творчестве А.С. Пушкина // Литературный критик. 1940. № 7/8. С. 222—232.
[Поэты-сатирики 1959] — Поэты-сатирики конца XVIII — начала XIX в. / Сост. Г. В. Ермаковой-Битнер. Л.: Сов. писатель, 1959.
[Пугачев 1992] — Пугачев В.В. Радищев, Карамзин, Пушкин. Саратов, 1992.
[Пушкин в воспоминаниях 1985а] — А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. М.: Худ. лит-ра, 1985. Т. 1.
[Пушкин в воспоминаниях 1985б] — А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. М.: Худ. лит-ра, 1985. Т. 2.
[Сандомирская 1982] — Сандомирская В.Б. Рабочая тетрадь Пушкина 1828—1833 гг. (ПД 838): История заполнения // Пушкин: исследования и материалы. Л.: Наука, 1982. Т. 10. С. 231—259.
[Смирнов-Сокольский 1962] — Смирнов-Сокольский Н.П. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М.: Изд-во Всесоюзн. книжной палаты, 1962.
[Смирнова-Россет 1989] — Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания / Изд. подгот. С.В. Житомирская. М.: Наука, 1989.
[Соловей 1977] — Соловей Н.Я. Из истории работы А.С. Пушкина над сюжетом «Евгения Онегина» (Альбом Онегина) // «Замысел, труд, воплощение…». М.: МГУ, 1977. С. 101—117.
[Судьба Онегина 2001] — Судьба Онегина / Сост. В. и А. Невские. М., 2001.
[Томашевский 1934] — Томашевский Б. Десятая глава «Евгения Онегина»: история разгадки // Литературное наследство. Т. 16/18. М., 1934. С. 379—420.
[Тургенев 1903] — А.И. Тургенев о кончине Пушкина // Русский архив. 1903. Кн. 1. С. 143—144.
[Тургеневы 1913] — Из документов архива братьев Тургеневых / Публ. В.М. Истрина // Журнал Министерства народного просвещения. 1913. Новая серия. Ч. XLIV. Март. Отд. 2. С. 1—26.
[Тынянов 1977] — Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977.
[Фомичев 2005] — Фомичев С.А. «Евгений Онегин»: движение замысла. М.: Русский путь, 2005.
[Цявловский 1930] — Цявловский М.А. Заметки о Пушкине // Пушкин и его современники. Л., 1930. Вып. 38/39. С. 222—224.
[Цявловский 1936] — Цявловский М.А. Заметки о Пушкине // Звенья: сб. материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. М.; Л.: Academia, 1936. С. 148—155.
[Чумаков 1999] — Чумаков Ю. Стихотворная поэтика Пушкина. СПб.: Пушкинская премьера, 1999.
[Якубович 1934] — Якубович Д. «Дневник» Пушкина // Пушкин. 1834 год. Л., 1934. С. 20—49.
Вернуться назад