Евгений Савицкий
Тревожное мастерство: сопоставление литератур в постколониальную эпоху
28 мая 2021
De Gennaro M. Modernism after Postcolonialism. Toward a Nonterritorial Comparative Literature.
Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2020. — XIV, 229 p. — (Hopkins Studies in Modernism).
Damrosch D. Comparing the Literatures. Literary Studies in a Global Age.
Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2020. — XII, 386 p.
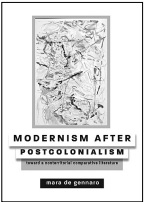
Книга преподавателя Школы им. А. Галлатина в Нью-Йоркском университете Мары де Дженнаро «Модернизм после постколониализма: к нетерриториальной сравнительной литературе» начинается с примера, взятого у историка Ранаджита Гухи из его статьи «Не дома в империи» [1]. Гуха известен как основатель индийских «subaltern studies» [2], что на русский переводится то как «исследования подчиненных», то как «исследования угнетенных» — с отсылкой к понятию угнетения посредством культурной гегемонии у А. Грамши [3]. Гуха, будучи изначально марксистом, исследовал крестьянские восстания в Индии периода британского правления [4] и столкнулся с тем, что как в источниках, так и в исследовательской литературе происходит присвоение или маргинализация этих восстаний различными доминирующими дискурсами, будь то британский колониализм, индийский национализм или работы ревизионистской Кембриджской школы исследований Юго-Восточной Азии. Каждый раз причина восстаний виделась во внешних факторах: злоупотреблениях колониальных чиновников, призывах прогрессивных деятелей индийского национального конгресса или манипуляциях крестьянами со стороны местных элит, добивавшихся для себя уступок от британских властей. Тем самым восставшие утрачивали статус активных действующих лиц, становились лишь функциями внешних воздействий, а потому можно было не интересоваться тем, что они сами думали [5]. Восстания, которые не укладывались в принятые историографические и политические схемы, оказывались просто дикими эксцессами, например сожжение заживо полицейских в деревне Чаури-Чаура в 1922 г., описываемое у Д. Неру как удар в спину индийскому освободительному движению [6] и инструментализированное британскими властями как свидетельство неготовности индийцев к ответственному самоуправлению [7]. Голоса же самих крестьян, редко оставлявших письменные свидетельства, услышать трудно, в том числе и потому, что их высказывания обычно не укладываются в концепции поступательного исторического развития: в своих протестах они часто руководствовались весьма архаичными идеями [8]. Гуха, однако, считал, что историки могут работать не только с тем, что наличествует, но и с тем, что отсутствует: уже само описание пустот и умолчаний меняет видение прошлого. Позднее Х. Баба описывал это как способность угнетенных вносить помехи, двусмысленности, неполноту в колониальный дискурс, в котором они, таким образом, могут быть распознаны не как позитивные присутствия, но как негативные разрушительные эффекты. Могучие ориенталистские стереотипы, о которых писал Э. Саид [9], оборачиваются сбивчивым бормотанием колонизатора: «Черная кожа расщепляется под расистским взглядом, смещается в знаки бестиальности, генитальности, гротеска, что обнаруживает фобический миф о недифференцированно целом белом теле» [10]. Статья Гухи «Не дома в империи» как раз посвящена страхам, которыми были одержимы колониальные чиновники, отнюдь не являвшиеся воплощениями рационального просвещенного сознания, какими сами хотели себя видеть [11]. («Не дома» в названии статьи отсылает в том числе к понятию «unheimlich» З. Фрейда [12].)
Именно в этом контексте как один из примеров Гуха рассматривает рассказ «Убить слона» (1936) Дж. Оруэлла, служившего в 1922—1927 гг. в колониальной полиции в Бирме. Главный герой рассказа, также офицер колониальной полиции, вынужден застрелить слона, сбежавшего от своего владельца и разгромившего местный рынок. Этого ждут от него местные жители, от этого поступка зависит поддержание престижа белого офицера, хотя слон уже прекратил буйствовать и убивать это огромное существо было жалко: «Я думал не столько о собственной шкуре, сколько о следящих за мною желтых лицах. Потому что в тот момент, чувствуя на себе глаза толпы, я не испытывал страха в обычном смысле этого слова, как если бы был один. Белый человек не должен испытывать страха на глазах “туземцев”, поэтому он в общем и целом бесстрашен. Единственная мысль крутилась в моем сознании: если что-нибудь выйдет не так, эти две тысячи бирманцев увидят меня удирающим, сбитым с ног, растоптанным, как тот оскаленный труп индийца на горе, с которой мы спустились. И если такое случится, то, не исключено, кое-кто из них станет смеяться. Я вложил патрон в магазин и лег на дороге, чтобы получше прицелиться» [13]. В отличие от того, что думает сам полицейский, Гуха трактует его тревогу (anxiety) как связанную с жутким осознанием того, что в этот момент он может поступить не так, как этого требует его позиция господина, что он может на самом деле совершить поступок, выводящий его за рамки ограничений, устанавливаемых имперской политикой. Оруэллу является возможность «быть не дома в империи», но он тут же отступает от нее. Убивая слона, он «преодолевает тревожность свободы, занимая прочную позицию на стороне несвободы» [14]. ускользающий характер свободы подчеркивается тем, что она описывается полицейским как нечто неопределенное и негативное — «я не испытывал страха в обычном смысле слова». Как отмечает де Дженнаро, Гуха здесь использует противопоставление страха и тревоги у Кьеркегора: страх имеет ясную причину, а тревога, напротив, отличается неопределенностью своего истока.
Эти размышления Гухи де Дженнаро сопоставляет с тем, что писала В. Браун в книге «Государства, окруженные стеной: угасающий суверенитет» [15]: тревога из- за вторжений чужаков и терроризма, создающая у людей потребность в возведении стен вокруг себя, на самом деле скрывает беспокойство по поводу угасающей суверенности национальных государств в глобализирующемся мире. Стены создают успокаивающую «картину мира», как понимал ее М. Хайдеггер[16]; усиливают самоидентификацию людей с государственной властью, их «готовность быть ограниченными», как писал об этом Э. Глиссан [17]. По замечанию де Дженнаро, в том, что описывает Браун, можно услышать эхо рассказов о тревожных колонизаторах, оказавшихся перед слишком обширными владениями, чтобы их можно было надежно контролировать. По сути, Браун, как и Гуха, пользуется противопоставлением обманчиво ясного страха и невысказываемой тревоги, чьи причины сложны и труднопризнаваемы. Тревога размыкает домашнюю «картину мира», вводит несоизмеримый с ней горизонт иных возможностей, от которых, однако, обычно спешат отвернуться, отгородиться при помощи психологических и социальных репрессий.
Однако, отмечает де Дженнаро, как раз интерпретация Гухой «Убийства слона» показывает недоступную либерализму Оруэлла возможность открытия свободы по ту сторону имперского мира. Литературное произведение может указывать пути мысли и действия, даже если эксплицитно отрицает их. Хотя Гуху интересует не столько литературная форма, сколько тревога колониальных чиновников, на которую историки слишком мало обращали внимания, его размышления, по мнению де Дженнаро, могут быть прочитаны в качестве признания политической значимости литературной формы как выражения такой тревоги. То, что Гуха обращает внимание на изменения языка героя рассказа (он становится неопределенным), показывает, что политическое «обещание» текста может содержаться не только в том, к каким выводам он явно приводит читателя, но и во взаимодействии различных способов высказывания, которые могут открывать или закрывать возможность сделать какие-то выводы. В зависимости от своего устройства текст может быть способным уходить из-под контроля рассказчика.
Отказ Оруэлла от прозрачности повествования в тот момент, когда он, кажется, может перестать идентифицировать себя с авторитетом империи, указывает на то, что освобождение от позиции господина содержит в себе освобождение от императива знать что-либо точно (о других и о себе в отношении с другими). Соответственно, пишет де Дженнаро, подводя читателя к теме модернистского литературного письма, существует одновременно политическая и этическая ценность сложного литературного языка, — сложного в том смысле, что он воспроизводит дилеммы, связанные с тревогой по поводу мира, отличающегося от того, к которому мы привыкли в своей связной и прозрачной «картине мира». По мнению де Дженнаро, это как раз то, что Г. Спивак описывает в «Смерти дисциплины» как «сложные, даже загадочные тексты», которые «ставят вопрос о сообществе», не давая на него простых ответов [18]. Выступая за такую практику сравнительного прочтения текстов, которая не будет приводить к производству стабильных истин, за процесс сравнения, который постоянно будет оставаться открытым и незавершенным, Спивак, по мнению де Дженнаро, имеет в виду то же самое, что и Гуха, — текст как «неопределенную структуру возможностей».
Оруэлла, который при помощи уклончивого языка отрицания изображает нераспознанную возможность свободы и тем самым остраняет свою надежную властную позицию, де Дженнаро сравнивает с В. Вулф, которая в «Своей комнате» сопоставляет старую викторианскую и новую модернистскую поэзию. «Поэзия Россетти и Теннисона будит в нас такой порыв и восторг потому, что чувство, которое она празднует, знакомо каждому человеку… В нем не сомневаешься, его не сравниваешь со своими новыми впечатлениями. На такую поэзию откликаешься легко, привычно». Новые же поэты «как бы выхватывают у нас еще не остывшее чувство. Его трудно узнать, часто почему-то его пугаешься. Пристально следишь за ним, ревниво и недоверчиво сравниваешь со старым, знакомым. В этом трудность современной поэзии» [19]. Здесь снова выстраивается связь между дезориентирующим языком и неопределенной тревогой, поэзия оказывается чем-то ненадежным, сомнительным, незнакомым, непривычным. Вулф при этом предлагает сознательно ненадежную практику сравнительного чтения одновременно знакомого и незнакомого, несмотря на то что это эмоционально трудно. Как отмечает де Дженнаро, Вулф начинает размышлять о сравнении викторианских и модернистских поэтов после того, как во время традиционного званого завтрака в старинном университетском колледже она смотрит в окно и видит странную бесхвостую кошку, какие водятся на острове Мэн: поэзия оказывается для нее чем-то подобным — способностью допустить чуждое в укоренившиеся и институциализированные формы знания. Оставаться теми же, кем мы были всегда, больше недостаточно, да и невозможно.
Сплетая вместе привычность викторианской литературы и сложность новой, Вулф, по мнению де Дженнаро, делает отличительной чертой той литературы, к которой стремится, само сравнение, причем не всякое, а тревожное, саморефлексивное, неокончательное, возникающее из непредвидимых столкновений давних структур привилегированного знания с силами, нарушающими их функционирование. Концептуальная сложность европейской и трансатлантической поэтики начала XX в. оказывается здесь делом политическим. Сложность для Вулф заключается не в загадочности аллюзий, которые способен постичь лишь человек с хорошим классическим образованием, что часто отмечается в связи с модернистской литературой. Та сложность, которую находит в современной поэзии Вулф, связана с пониманием неразрешенности и, возможно, неразрешимости социальных и текстуальных противоречий. не способное привести к ясным выводам и потому не ориентированное на нормативность сравнение имеет дело с миром, полнота которого бросает вызов любому мастерству/господству (mastery). С этим новым пониманием мира, по словам де Дженнаро, приходит обеспокоенность странными «фигурами различия», проникающими в огороженные сообщества и их самоуверенные дискурсивные практики.
Здесь, однако, де Дженнаро вспоминает о том, что модернистскую литературу из-за ее сложности, из-за требуемого ею «образовательного ценза» часто обвиняли в элитарности, и здесь она снова обращается к «исследованиям угнетенных», на этот раз в связи с книгой Дипеша Чакрабарти «Провинциализируя Европу» [20]. Имея в виду как раз то, что писал Гуха о невозможности в полной мере представить голоса крестьян и других угнетенных, Чакрабарти указывал на необходимость при написании истории признавать непрозрачность мира, учитывать игру видимого и невидимого, а также сопротивление прошлого включению его в дискурсивные структуры: так же, как чувство боли, оно не вполне может быть выражено в языке [21]. Для Чакрабарти дело было, однако, не только в недостатке источников, но и в том, что европейская историография нового времени с ее идеей поступательного движения времени мало годилась для описания крестьянских протестов, которые зачастую формулировались с использованием архаичных культурных форм, однако и не были при этом мифическим «вечным возвращением того же самого». Как отмечает де Дженнаро, перед лицом этого не вполне представимого прошлого (но также и настоящего — для Чакрабарти, как и для других последователей Гухи, важны были и получившие особый размах в 1970-е гг. протесты против проводимой правительствами Д. Неру и И. Ганди политики насильственной модернизации, для которых не хватало языка за пределами противопоставления традиционного и модернистского) Чакрабарти пишет об историографической «политике отчаяния», а позднее он будет вести речь и о написании истории «с чувством страха и тревоги» [22]. Он выступает за историю, которая «сознательно делает видимыми, внутри самой ее нарративной формы, свои репрессивные стратегии и практики» [23]. Таким образом, де Дженнаро находит у Чакрабарти то, что созвучно ее изначальному примеру с Гухой, читающим Оруэлла: в рамках самого властного дискурса может проглядывать то, что потенциально способно его подорвать, что вводит соотнесение этого ограниченного языка с иным, несоразмерно-несоотносимым, делает сравнение политическим жестом.
Размышления Чакрабарти об истории де Дженнаро сравнивает со стремлением Глиссана осмыслить целостность взаимосвязей в мире, не будучи связанным ни локальной политикой идентичности, ни всеобщим гуманизмом. Глиссан создает парадоксальное понятие отношения как «открытой тотальности, подвижной внутри себя», из которой изъят принцип единства. Он стремится представить мир как безграничное силовое поле, в котором различные элементы взаимодействуют друг с другом непредвидимым образом, без единого импульса или цели. Такое рассмотрение отношений подразумевает замену «воображаемой прозрачности» единого мира «непрозрачностью разнообразия», «поэтическая сила» которого «заставляет нас почувствовать ограниченность всякого метода» [24]. Во многом по аналогии с «номадной мыслью» у Ж. Делёза [25] Глиссан вводит понятие «мысль блуждания» (la pensée de l’errance): она позволяет избегать односторонности и категоричности оценок, «тиранического» способа представления других, при котором их сложная жизнь сводится к нужному нам знанию, достаточному, чтобы продвигать и делать естественными отношения господства [26]. Позднее в «Философии отношения» Глиссан вводит еще понятие хрупкой «дрожащей мысли» (pensée de tremblement) [27], которая способна реагировать на происходящие в мире потрясения, не закрываясь перед лицом их неким надежным знанием [28]. Здесь де Дженнаро возвращает читателя к проблематике Браун, но также и к вопросу об открытости «непредвидимому» и «неопределимому» у Ж. Деррида — вроде тех призраков, к которым он не раз обращался в поздних работах и которых, как и крестьян у Гухи или Чакрабарти, невозможно описать ни через позитивистскую идентификацию с местным, локальным, ни через ясное соотношение с глобальным, всеобщим, и альтернативой здесь оказывается избегающее определенностей «детерриториализированное» чтение — еще одно делёзовское понятие, заимствуемое в этой книге через Глиссана, но соотносимое также и с размышлениями Ж. Батая о «поэтическом» языке как таком, который способен нарушать принятые референциальные связи.
В дальнейшем эта теоретическая рамка позволяет де Дженнаро исследовать «тревожное мастерство/господство», языковую и этическую неопределенность в целом ряде литературных текстов: в «Меланкте» Г. Стайн и «Бесчестии» Дж.М. Кутзее, в «Бесплодной земле» Т.С. Элиота и «Дневнике возвращения в родную страну» Э. Сезера, в «Путешествии в Индию» Э.М. Форстера и «Тексако» П. Шамуазо, в «Трех гинеях» В. Вулф и «Возделывании костями» Э. Дантика.
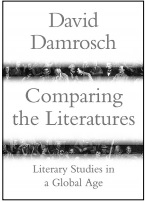
Спефицика «блуждающего» мигрантского взгляда и роль опыта изгнания для становления сравнительного изучения литератур рассматриваются и в книге «Сравнивая литературы: филология в глобальную эпоху» профессора Гарвардского университета Дэвида Дэмроша [29]. Книга состоит из серии очерков, прослеживающих историю сопоставления литератур от рубежа XVIII—XIX вв. до наших дней. Первый очерк посвящен биографиям И.Г. Гердера и Ж. де Сталь: она родилась в Париже в протестантской семье недавно разбогатевшего финансиста, у которого были сложные отношения с придворными кругами; ее немецкий современник был глубоко набожным сыном бедного школьного учителя, однако впоследствии ему пришлось служить представителям высшей немецкой знати в Бюкебурге и Веймаре. И Гердер, и Сталь всю жизнь были критиками деспотизма и приветствовали Французскую революцию, во время которой они и пишут свои главные труды по сравнительному изучению литератур: «Письма для поощрения гуманности» (1792—1797) и «О литературе, рассмотренной в связи с общественными установлениями» (1800). На формирование взглядов Гердера повлияло его пребывание в Риге, где он стал интересоваться народной литературой, как немецкой, так и латышской. В его текстах Дэмрош обнаруживает двойственность: с одной стороны, в них отстаивается специфика всякой национальной культуры, связь народного духа и языка. С другой, Гердер подчеркивает и изменчивость языков: как мигрируют народы, так же и языки смешиваются, испытывая влияние новых образов и понятий. Такие изменения происходят не только в отношениях между народами, но и внутри одного народа. В итоге Дэмрош определят Гердера как «националистического интернационалиста»: для него были важны как утверждение единства немецкой культуры, так и борьба с национальным высокомерием, противопоставлявшим различные культуры друг другу. Сталь формулировала свои идеи о литературе в тот период, когда все больше подвергалась исключению в парижском обществе из-за критики диктаторских намерений Наполеона; впоследствии она была вынуждена эмигрировать из Франции, и уже в эмиграции она напишет роман «Коринна, или Италия» (1807) и трактат «О Германии» (1810). Этот опыт социального отчуждения и миграции не только сделал ее более внимательной к литературе других стран, но и заставил обратить внимание на связь литературы и социальных институций, на возможность обретения художественным словом политической силы, на роль женщин в истории литературы.
Разработка основ сравнительного изучения литератур, заложенных в трудах Гердера и Сталь, была продолжена во второй половине XIX в. Хуго Мельцлем, венгерско-немецким исследователем, преподававшим в новом университете Франца Иосифа в Клаузенбурге (венг. Коложвар, ныне — Клуж-Напока, Румыния), в венгерской части Австро-Венгрии, где также была велика доля немецкого и румынского населения, и Хатчесоном Маколеем Поснеттом, ирландцем по происхождению, преподававшим классическую и английскую литературу в Оклендском университете в Новой Зеландии. Мельцль в 1877—1888 гг. издавал первый академический журнал, посвященный сравнительным исследованиям в области филологии, — «Acta comparationis litterarum universarum», Поснетт же опубликовал в 1866 г. книгу «Сравнительное литературоведение» и тем самым придумал английское именование для возникающей научной дисциплины.
Как отмечает Дэмрош, проект Мельцля был реакцией на преобладание национализма в историко-литературных исследованиях середины XIX в. Противоположностью национализму мог бы быть космополитизм, однако он сам понимался европоцентрично. Так, А.В. Шлегель в 1804 г. писал о нем как об «исконно германской черте»: долгое время лишенные единого государства, немцы были вынуждены следовать разным направлениям, ориентироваться на другие государства, однако то, что раньше было слабостью, теперь оборачивается их силой, ибо никто не способен так, как они, собрать вместе все эти разрозненные направления в единое целое, и в этом залог грядущего превосходства немцев. Как отмечает Дэмрош, прежде чем стать профессором в Бонне, Шлегель состоял воспитателем у детей Сталь и был членом ее узкого круга вплоть до ее смерти. Таким образом, основанный Мельцлем журнал сравнительных исследований должен был стать альтернативой как национализму, так и космополитизму в тогдашнем значении этого слова. Журнал имел несколько параллельных названий и декларировал открытость для материалов на любых языках, но на деле рабочими языками были немецкий и венгерский: было понимание того, что статьи на редких языках мало кто сможет прочитать. Журнал выходил крайне незначительным тиражом и закрылся, когда Макс Кох стал издавать в Берлине чисто немецкий журнал по сравнительному литературоведению.
Поснетт тоже критиковал как национализм, так и космополитизм, свойственный в особенности французской культуре, по сравнению с которой британская выглядела гораздо более регионально дифференцированной. По его мнению, литературы различаются в зависимости от стадии развития общества, и потому для них не может быть единых норм. Именно выявлению культурной относительности, а не выстраиванию националистических иерархий должны были, по мысли Поснетта, служить сравнительные исследования литературы.
Опыт эмиграции был важен также для создания своих проектов сравнительного изучения литератур китайскими исследователями середины XX в., Ху Ши и Линь Юйтаном. Оба они учились в США, потом вернулись в Китай, но после победы коммунистов были вынуждены жить в изгнании на Тайване. Оба, как отмечает Дэмрош, были сторонниками культурного взаимопонимания, а не поспешного революционного размежевания. Они полагали, что человек, занимающийся сравнениями разных литературных традиций, обладает особым даром двойного видения вещей. Ху Ши и Линь Юйтан отличались и широкой междисциплинарностью интересов.
Еще одну группу мигрантов в книге Дэмроша образуют Лилиан Фурст, Эрих Ауэрбах, Лео Шпитцер и Рене Веллек. Вообще, как отмечает Дэмрош, тип интеллектуала-мигранта становится к середине XX в. массовым: люди уезжают, спасаясь от войн, погромов и лагерей. Во введении книги «Случайные направления» [30] Фурст вспоминает свой отъезд из Вены в 1938 г. — как на нее смотрели дети из другого вагона, которых вывозили одних, без родителей. Она также пишет о невозможности привыкнуть к новому дому в Америке, о сохраняющемся на всю жизнь отчуждении по отношению к новой среде. Даже став гражданкой США, занимая почетную кафедру в одном из ведущих университетов, имея множество публикаций и сбережения, она все равно то и дело страдает от тревоги и бессонниц, ощущает свою беззащитность перед непредсказуемыми процессами, происходящими в мире. К этой проблематике Фурст обращается в поздних работах, написанных на пересечении медицины и гуманитарного знания [31], тогда как в более ранних занималась сравнительным изучением европейских романтизмов [32].
Шпитцер и Ауэрбах в Стамбуле чувствовали себе вполне хорошо, но, как отмечает Дэмрош, гораздо сложнее им пришлось в Америке. Ауэрбах был уволен из Пенсильванского университета, так как страдал гипертензией, а руководство не хотело связываться с потенциальным инвалидом; впоследствии ему все-таки удается устроиться в Принстоне и затем в Йеле, но он так и не смог привыкнуть к американской культуре и английскому языку. Как пишет Дэмрош, за внешним спокойствием Ауэрбаха сохранялась глубокая тревога, и это проявлялось как в текстах, например в заключительных строках «Мимесиса», так и в его манере читать лекции, когда он, порой, зажигал сразу две сигареты, одну из которых держал в руке, а вторую оставлял дымиться в пепельнице.
Шпитцер уехал из Германии и Турции еще до войны, у него не было таких проблем со здоровьем, как у Аэрбаха, и ему повезло сразу получить кафедру в Университете Джонса Хопкинса, основанном по образцу немецких. Однако и он воспринимал переезд в Америку скорее как утрату Европы, чем как обретение Нового Света. Его страдания усугубляло то, что он был вынужден оставить в Стамбуле Розмари Буркарт, которой не дали разрешение на въезд в США… Нельзя не отметить, что в книге Дэмроша довольно много жизненных подробностей известных филологов-компаративистов, не имеющих, как кажется, большого концептуального значения, и местами книга имеет мемуарный характер, чем, однако, тоже ценна, поскольку позволяет увидеть широкую панораму интеллектуальной жизни филологов-компаративистов в США последних десятилетий [33].
Возможность и необходимость сравнительных исследований в последние годы не раз ставились под сомнение — как в филологии, так и в других дисциплинах [34]. Компаративные проекты слишком тесно ассоциировались с проектами всеобщих историй, которые на деле оказывались основанными на грубых упрощениях и европоцентристских стереотипах; они трактовались как насильственное позитивистское сведение уникальных и не вполне переводимых текстов к ясным сопоставимым единицам анализа, выделяемым более или менее произвольно; сама позиция того, кто сопоставляет, критиковалась как привилегированная, связанная с возможностью взять и поставить перед собой все нужные культуры, которые перед этим должны были быть сделаны полностью доступными, не оказывающими более никакого сопротивления сравнительному взгляду. Таким образом, кроме общей методологической критики в отношении компаративных исследований выдвигались и обвинения, связанные с их сопричастностью колониальному империализму. Во многом именно поэтому область сравнительного изучения литератур наряду с этнологией и историей стала тем местом, где вопросы колониальной вовлеченности существующих форм знания стали обсуждаться с особой заинтересованностью (у Саида, Бабы, Спивак и др.). Авторы обеих рассмотренных книг стремятся учитывать постколониальную критику и переосмысливают целый ряд ключевых для исследований литературы понятий: сравнение оказывается не столько объективным учетом сходств и различий, сколько столкновением текстов, включением их в диалог, порой анахроничный, идущий поверх принятых географических разделений; исследователь — больше не тот, кто претендует на уверенное «владение» своим материалом; теперь он, не скрывая своих тревог, учится «контрапунктному», или «блуждающему», чтению; всеобщность понимается не как всеохватность, стремление к позитивистской полноте понимания всех возможных литератур, а как открытость огромно-несоизмеримому, тому, что создает пусть неопределенные, но все же альтернативы прежним и новым ограниченным колониальным порядкам [35].
[1] Guha R. Not at Home in Empire // Critical Inquiry. 1997. Vol. 23. № 3. P. 482—493.
[2] См.: Prakash G. Subaltern Studies as Postcolonial Criticism // American Historical Review. 1994. Vol. 99. № 5. P. 1475—1490; Selected Subaltern Studies / Eds. R. Guha, G.C. Spivak. Oxford, 1988.
[3] О возможностях и границах применения концепции Грамши к колониям см.: Арнольд Д. Государственное здравоохранение и государственная власть: медицина и гегемония в колониальной Индии / Пер. К.А. Левинсона // Болезнь и здоровье: новые подходы к истории медицины / Под ред. Ю. Шлюмбома, М. Хагнера, И. Сироткиной. СПб., 2008. С. 168—195; Комарофф Дж.Л., Комарофф Дж. Безумец и мигрант / Пер. К.А. Левинсона // История и антропология: междисциплинарные исследования на рубеже XX—XXI вв. / Под ред. М.М. Крома, Д. Сэбиана, Г. Альгаци. СПб., 2006. С. 263—301.
[4] См.: Guha R. Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. Delhi, 1983.
[5] См.: Idem. The Prose of Counter-Insurgency // Guha R. The Small Voice of History: Collected Essays. Delhi, 2002. P. 194—238. Cм. также: O’Hanlon R. Recovering the Subject: «Subaltern Studies» and Histories of Resistance in Colonial South Asia // Modern Asia Studies. 1988. Vol. 22. P. 189—224.
[6] «Случай в Чаури-Чаура мог быть, и действительно был, прискорбным инцидентом, резко противоречившим всему духу движения ненасилия. Но разве допустимо было, чтобы отдаленная деревня и толпа охваченных возбуждением крестьян в каком-то глухом местечке могли положить конец, по крайней мере на какое-то время, нашей национальной борьбе за свободу?» (Неру Д. Автобиография / Пер. В.В. Исакович, Д.Э. Кунина, В.Н. Павлова. М., 1955. С. 95).
[7] См. об этом: Amin Sh. Event, Metaphor, Memory: Chauri Chaura 1922—1992. Berkley; Los Angeles, 1995. О присвоении права говорить вместо неразумных и преступных крестьян применительно к России см.: Коцонис Я. Как крестьян делали отсталыми: сельскохозяйственные кооперативы и аграрный вопрос в России 1861—1914 гг. М., 2006; Джераси Р. Окно на восток: империя, национализм, нация и религия в России / Пер. В. Гончарова. М., 2013. С. 243—274.
[8] Здесь работы Гухи и его последователей схожи с европейскими и американскими исследованиями в рамках «новой культурной истории», где также происходило переосмысление роли культурной архаики в истории бунтов и революций: Дарнтон Р. Рабочие бунтуют: кошачье побоище на улице Сен-Севрен / Пер. Т. Доброницкой // Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры. М., 2002. С. 91—125; Дэвис Н.З. Обряды насилия / Пер. К.А. Левинсона // История и антропология: междисциплинарные исследования на рубеже XX—XXI веков / Под ред. М. Крома, Д. Сэбиана, Г. Альгаци. СПб., 2006. С. 111—162; Озуф М. Революционный праздник, 1789—1799 / Пер. Е.Э. Ляминой. М., 2003. С. 56—59.
[9] См.: Саид Э. Ориентализм. СПб., 2006.
[10] Bhabha H. Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse // Bhabha H. The Location of Culture. N.Y., 1994. P. 92. (Ср. не вполне точный русский перевод: Баба Х. Мимикрия и человек // Новое литературное обозрение. 2020. № 161. С. 29—37.)
[11] Роль слухов и собственного беспокойного воображения колониальных чиновников исследовалась также А.Л. Стоулер применительно к нидерландской индии: Stoler A.L. Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and the Colonial Common Sense. Princeton, 2008. Й. Фабиан изучал то же самое на примере исследователей и колонизаторов тропической Африки: Fabian J. Out of Our Minds: Reason and Madness in the Explora- tion of Central Africa. Berkley; Los Angeles, 2000.
[12] См.: Фрейд З. Жуткое // Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995. С. 265—281.
[13] Оруэлл Дж. Убийство слона / Пер. А. Файнгара // Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет. М., 1989. С. 226—227.
[14] Guha R. Not at Home in Empire. P. 493.
[15] Brown W. Walled States, Waning Sovereignity. N.Y., 2010.
[16] См.: Хайдеггер М. Время картины мира // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 41—62.
[17] См.: Glissant E. Poétique de la relation. P., 1990. P. 136—137.
[18] Spivak G.C. Death of a Discipline. N.Y., 2003. P. 26.
[19] Вулф В. Своя комната / Пер. Н.И. Рейнгольд // Вулф В. Обыкновенный читатель. М., 2012. С. 469.
[20] Chakrabarty D. Provincialising Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton; Oxford, 2000.
[21] Здесь влияние на «исследования угнетенных» оказали работы: White H. The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation. Baltimore; L., 1987; La-Capra D. Writing History, Writing Trauma. Baltimore; L., 2001. Ср. также: Probing the Limits of Representation: Nazism and the «Final Solution» / Ed. S. Friedlander. L., 1992.
[22] Charkabarty D. Habitations of Modernity: Essays in the Wake of Subaltern Studies. Chicago, 2002. P. 46—47.
[23] Idem. Provincialising Europe. P. 45—46.
[24] Glissant E. Op. cit. P. 206.
[25] Deleuze G. Pensée nomade // Deleuze G. L’île déserte et autres textes. P., 2002. P. 351—364.
[26] Ср. критику схематизации Другого в «ориентализме» Саида: сведение человека к основным характеристикам, подобно растениям в классификациях Линнея, сведение языка к корням слов, что позволяет проводить широкие вольные сопоставления, и т.п. Саид же писал об особой «контрапунктной» оптике мигранта, которая позволяет все время видеть новый мир в соотнесении со старым и наоборот, что, по его мнению, является большим преимуществом мигрантов, хотя в то же время и «утомляет, выматывает»: Саид Э. Мысли об изгнании / Пер. С. Силаковой // Иностранная литература. 2001. № 1. С. 252—262.
[27] Glissant E. Philosophie de la relation. P., 2009. P. 54. См. также: Глиссан Э. За непрозрачность / Пер. А. Мороз // Художественный журнал. 2019. № 110. С. 6—9.
[28] Ср.: Сhretien J.-L. Fragilité. P., 2017; Grossman E. Éloge de l’hypersensible. P., 2017; Cавицкий Е. Хрупкие, сверхчувствительные и потерпевшие крах герои современных историко-филологических исследований // Новое литературное обозрение. 2019. № 157. С. 314—424.
[29] О более ранних работах Дэмроша, а также об основанном им в Гарварде институте мировой литературы см.: Венедиктова Т. Институт мировой литературы по-гарвардски // Новое литературное обозрение. 2018. № 152. С. 313—323.
[30] Furst L. Random Destinations. Escaping the Holocaust and Starting Life Again. N.Y., 2005. Cм. также: Furst L., Furst D. Home Is Somewhere Else: Autobiography in Two Voices. N.Y., 1994.
[31] Furst L. Idioms of Distress: Psychosomatic Disorders in Medical and Imaginative Literature. N.Y., 2002.
[32] Eadem. Romanticism in Perspective: A Comparative Study of Aspects of the Romantic Movements in England, France and Germany. L.; N.Y., 1969.
[33] Книга Дэмроша местами перекликается и «полемизирует» с критически-биографическими очерками Х.У. Гумбрехта «О жизни и смерти великих романистов»: Gumbrecht H.U. Vom Leben und Sterben der großen Romanisten. München, 2002.
[34] См.: Кром М.М. Введение в историческую компаративистику. СПб., 2015. О внутренних институциональных проблемах компаративистики в университетах США см.: Венедиктова Т. Указ. соч. С. 320.
[35] Исследование выполнено за счет гранта РНФ № 20-18-00482.
Вернуться назад