Александр Рубцов
Блеск нищеты
14 июля 2014
Российская наука эпохи заката модернизации
1.
Двенадцать лет назад вышел номер «Отечественных записок» с изящно и изобретательно обозначенной темой: «Блеск и нищета российской науки». Статьи выпуска с разных позиций описывали состояние российского научного комплекса в 2002 году, интеллектуальную историю предыдущего десятилетия, обстоятельства и причины кризиса, ставили задачи, предлагали спасательные средства целыми списками. Если вовсе не стесняться заезженных беллетристических штампов, диагностическую часть номера с таким же успехом можно было назвать «Униженные и оскорбленные» или «Преступление и наказание», а рецептурный отдел и вовсе: «Гордость и предубеждение». В целом же по уровню «полемики» дежурное, прости господи, «pro и contra».
Ключевые тексты номера принадлежали лицам, либо до этого бывшим значимыми в науке и околонаучной политике, либо ставшим таковыми позже и являющимся ими по сию пору: Борис Салтыков (на начальной стадии реформ курировавший научно-техническую политику в качестве вице-премьера), Андрей Фурсенко (тогда замминистра Минпромнауки, позднее глава Минобрнауки, а сейчас советник президента по данному направлению), Владимир Фортов (бывший председатель ГКНТ, министр науки и технологий и зампред правительства РФ в кабинете Черномырдина, нынешний президент РАН), а также ряд признанных экспертов. Условно авторский коллектив делился на две категории: «управленцы» и «академики» (в «метисах», представлявших одновременно науку и власть, это разделение также просматривалось). Фактуру и положение дел авторы от обеих группировок описывали почти одинаково, примерно так же одинаково они излагали причины кризиса и меры по выходу из него, однако между словами явно читались существенно разные позиции. «Управленцы» предлагали науке радикально реформироваться, адаптируясь к новым условиям, тогда как «академики» делали упор на стратегическом и идеологическом значении науки для руин державы и на этом основании запрашивали дополнительные ресурсы, которые помогли бы если не решить проблему, то по крайней мере предотвратить обвал с невосполнимыми потерями. Увеличение финансирования требовалось кратное. Сейчас это особенно интересно, поскольку с тех пор позиции в содержательном плане практически не изменились, хотя организационно ситуация поменялась кардинально, а во многом просто вышла из-под контроля. По сути, до сих пор эта оппозиция так и остается представленной двумя лозунгами: «Без науки у России нет будущего!» — и оппонирующим, от власти: «На себя посмотрите!». Аргумент из разряда: если это и есть ваше будущее, то...
Итак, что именно произошло с российской наукой и с контекстом ее существования за первое десятилетие «рыночно-демократических преобразований»?
Обрушилась планово-командная система, позволявшая перераспределять ресурсы исходя из соображений прежде всего идеологии и большой политики, включая интересы оборонного комплекса. При этом суммарный ресурс резко сжался, а защищавшие науку идеология с политикой и вовсе отошли на второй план перед лицом отчасти приближавшегося, отчасти уже состоявшегося обвала. Изменились геостратегия и внешнеполитическая линия, состоялась существенная демилитаризация экономики, а с ней и значительного массива прикладной и отраслевой науки. В итоге в стране резко изменилось отношение и к самой науке, и к условиям ее содержания, и к деньгам в целом. В результате демонтажа железного занавеса между странами и профессиями началась интенсивная утечка мозгов, причем двоякая: внешняя (за рубеж) и внутренняя (в другие виды деятельности, в том числе в бизнес и политику). Поскольку уходили далеко не пассивные, доля кадрового балласта, и без того немалая, заметно возросла. Исследовательские структуры перешли в режим выживания, что позволяло поддерживать в активной фазе лишь отдельные проекты, хотя часто впечатляющие и не совсем единичные.
В то же время новая рыночная экономика (в том виде и состоянии, в каком она на тот момент формировалась) интереса к финансированию исследовательских программ почти не проявляла и в наукоемкие проекты не втягивалась даже под давлением сверху. Положительные примеры продуктивного сотрудничества приводились, но было видно, что это в основном не более чем иллюстративная экзотика. В целом этот рынок с этой наукой явно не сроднился. Как и она с ним.
Главный вывод и для «управленцев», и для «академиков» был примерно одинаков: страна больше не в состоянии финансировать весь фронт исследований. Если оставшийся ресурс более или менее равномерно делить между всеми, хуже будет всем. Поэтому необходимо выбрать приоритеты, отследив остатки конкурентоспособности, и железной рукой перераспределить ресурс, поддержав достойное и пожертвовав тем, что и без того умирает. «Академики» в этом с «управленцами» особенно не спорили, а то и вовсе были единодушны, поскольку, во-первых, все здесь было слишком очевидно, а во-вторых, контактеры с правительством не без оснований полагали, что их никак не подведут под списание и что такое перераспределение ресурса окажется в их пользу.
Этот план, при всей его очевидности, был реализован далеко не полностью. Интуитивно можно было понять, что такое перераспределение в тех условиях решало далеко не все, если не сказать не так уж и много. Содержание всей российской науки на тот момент было сравнимым с бюджетом одного (!) среднего (!) американского университета. Перераспределение суммы, упорно стремящейся к нулю, мало что решало, но создавало социальное напряжение. Срабатывала каноническая косыгинская формула про неэффективность стрижки свиней и академий, особенно если с визгом. Идея расставания с единым фронтом и поддержки отдельных приоритетов только звучала убедительно: в жизни никто не был готов оставить лишь очень узкий сектор прежнего фронта, а без этого затея лишалась смысла. Тем не менее коллективом «академиков» и «управленцев» была произнесена (и не раз!) торжественная речь на похоронах почти уникального в истории явления — полного научного комплекса СССР. Страна перестала воевать со всем миром, приоткрылась, отказалась от научной автохтонности (в той мере, в какой таковая вообще возможна), а потому решила встраиваться в международное разделение исследовательского труда. Это было более чем очевидное решение: даже американцы в какой-то момент поняли, что второй коллайдер миру не нужен, притормозили свой проект в Техасе и начали вкладываться в ЦЕРН, участвуя в его программах деньгами и исследованиями. Как встроились в это международное разделение труда мы — разговор особый.
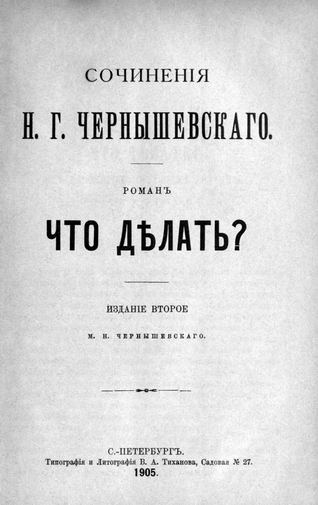
Предлагались и проективные решения. Уже обсуждалась идея переноса центра тяжести исследовательской активности в университеты (люди тогда явно — как, впрочем, и потом — не озадачивали себя изучением стратегий и схем финансирования университетов и университетской науки на Западе, полагая, что и без этих схем российская наука расцветет от одной только ее передислокации в деградирующие и постепенно вымирающие вузы с падающими рейтингами). Пропагандировалась идея фондов (прежде всего РФФИ и РГНФ) как конкурсной альтернативы планово-административной модели распределения средств, в которой академия вела себя как государство в государстве со всеми минусами государственной директивности и бюрократии. Декларировалась необходимость сделать систему организации и финансирования академической науки более открытой и по-хорошему демократичной. Активно обсуждалась проблема передачи разработчикам прав интеллектуальной собственности на продукт, произведенный на средства федерального бюджета (считалось, что это и есть решение проблемы «невнедрения» и фатальных сложностей коммерциализации)...
Общее впечатление от этих воспоминаний: всем все ясно, осталось договориться. Судя по тому, что происходит сейчас, никому ничего не ясно, а затяжной переговорный процесс сменился силовой развязкой в виде разгрома РАН. Однако между тем бреющим парением и нынешним полным упадком академической науки как института была еще целая история попытки взлета на форсаже «обновления» и «смены вектора развития». Иными словами, с тех пор повестка радикально менялась как минимум два раза.
2.
Вся эта экспозиция сейчас показательна с разных точек зрения. С одной стороны, интересно, как много уже тогда было устойчивых штампов, сохранившихся почти нетронутыми до сих пор. С другой стороны, в этом обзоре очень хорошо видно, чего здесь не хватало и что появилось несколько позже, а именно в риторике так называемой постиндустриальной модернизации. И наконец, если вдуматься, виден концептуальный провал, до сих пор так и не преодоленный в дискурсе модернизационного проекта: активно обсуждается система науки и ее интерфейс с экономикой, но никак не сама экономика с точки зрения ее стратегической ориентированности (или принципиальной не ориентированности) на инновации и знание. При этом вовсе не обсуждаются ни институты и социальная среда, ни политика, ни идеология, ни глобальный дизайн этого государства и т. п., включая вековые традиции и архетипы ресурсного социума в целом. Тромбоэмболию рассчитывали и до сих пор рассчитывают лечить средствами от кашля.
Более того, все чувствуют, что «решая судьбы российской науки», они участвуют в спектакле со спонтанной драматургией и режиссурой (постановка движется противоборством двух основных групп актеров при пассивном сострадании миллионов зрителей), однако мало кто решается заглянуть за кулисы, а тем более описать реальную жизнь труппы за пределами всей этой небогатой, но пышной театрализации. Все продолжают делать вид, что живут в государстве, в котором знание еще является авторитетом и ценностью, хотя на самом деле на это святое место давно водружают новую мифологию и веру, призванную скрепить общество с утраченной надеждой и технично разжигаемой ненавистью.
Но как бы там ни было, в середине нулевых отечественной науке довелось пройти через еще один соблазн — пережить недолгий апофеоз идеологии «модернизации», «смены вектора развития с сырьевого на инновационный», «преодоления технологического отставания», «снижения зависимости от экспорта сырья и импорта товаров и технологий». Зазвучали слова про очередной «новый технологический уклад», про «постиндустриальную эпоху» и «экономику знания»... Было полное впечатление, что страна оказалась на старте нового мегапроекта. При этом дело доходило до проработки условий выполнения новой стратегии: управленческая лексика пестрела бесконечными «инновационными системами», «полями интеграции знания», «критическими технологиями», «технополисами», «технопарками» и «технико-внедренческими зонами», «информационно-технологическими центрами» и «информационно-производственными комплексами», «бизнес-инкубаторами» и «центрами трансфера технологий», «венчурными проектами», «инструментами коммерциализации»... Считается, что начало формированию национальной инновационной системы в России было положено выходом в 2007 году утвержденных Президентом РФ «Основ политики Российской Федерации в области развития науки и технологии на период до 2010 года и дальнейшую перспективу». В развитие этого документа были утверждены «Приоритетные направления развития технологий науки и техники в Российской Федерации» и «Перечень критических технологий Российской Федерации» (Указ Президента РФ от 07.07.2011 г. № 899). Но главным было присутствие во всех мыслимых стратегиях того времени в качестве ключевой идеи опоры на знание и инновации как на альтернативу сырьевой экономике, тактически обезоруживающей и стратегически обреченной — раньше или позже.
Хотя идею и лексику модернизации обычно связывают с Дмитрием Медведевым, все начиналось еще при Владимире Путине и, более того, выглядело как основное в его оперативном политическом завещании местоблюстителю. Тогда таинственный «план Путина» пролетел над нами, то ли как никому не видимый идеологический стелс, то ли как очередная фанера над Россией, но если в нем что-что и было, то именно опора на знание в противовес «трубе». Временно сдвигаясь в премьеры, Путин не мог не показать стране и миру, чью именно стратегию Родина будет воплощать отныне и впредь. (На выборы шел Медведев, а рекламируемая программа была... путинская.) В этом проекте было все, что требуется от государственной идеологии: эпохальная идея, программа, скрепы, идентичность, преемственность, большая перспектива и вера в будущее. Наука в той идеологии вновь поднималась в качестве основы этого локального и оказавшегося таким коротким постсоветского Просвещения — мимолетного эпизода случайной связи знания и власти.
Проще всего счесть это предвыборной маниловщиной и преходящим идеологическим упражнением. Это тем более легко сделать, что люди явно не понимали (и сейчас не понимают) масштаба ими же поставленной задачи. Сменить вектор развития — это задача в самом высоком и строгом смысле слова историческая, а вовсе не среднесрочная установка группе заинтересованных ведомств (даже не правительству в целом). Это даже не просто слом вековой традиции, у истоков которой стояли лен, пенька, лес и воск, почти без последствий для сути дела сменившиеся нефтью, газом и металлами низкого передела. Проще построить плановую экономику, а потом на ее руинах воссоздать подобие цивилизованного рынка, чем так «сменить вектор».
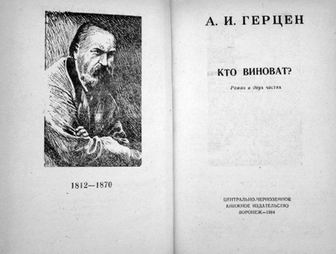
Более того, это задача из разряда решаемых либо только теоретически, либо крайне редко и почти уникальными мерами. Известно, как лечится «голландская болезнь» в учебниках, а иногда и в жизни. Но можно только догадываться, как избавляться от сырьевого проклятья, катастрофически усугубленного проклятьем институциональным. Институциональная среда в стране может быть только одного типа, ориентированная либо на перераспределение ренты, либо на производство и креатив. Либо вы производите, и тогда вам не особенно удобно перераспределять, тем более не во вред себе. Реформы такого рода — это всегда самая настоящая война за государство, а не кокетливое переодевание перед зеркалом. Если не срабатывает немыслимый сгусток политической воли, институты перераспределения в этой войне всегда побеждают, и побеждать они будут до тех пор, пока сырьевая экономика не войдет в свое финальное пике, то есть когда запускать несырьевую альтернативу будет уже поздно, не из чего, да и некому. Это историческая ловушка. Прежде чем производить новое и сложное, стране еще предстоит непонятным образом вернуть себе способность производить хотя бы простое, а то и старое. В таких огромных, а потому всегда частично автохтонных экономиках ничего постиндустриального без обычной реиндустриализации не бывает. Можно и нужно поддерживать молодых ученых, налаживать связи с научной диаспорой и даже запускать серии маленьких исследовательских мегапроектов, однако приходится удерживать в поле зрения и мегапроект в целом. В сырьевом, ресурсном социуме сфера знания и образования также относится к разряду сырьевых отраслей: она производит что угодно, но не конечный продукт, а всегда полуфабрикат, не изделие, а продукцию низкого передела, экспортируемую за рубеж в виде мозгов и знаний, но задаром, а в плане глобальной конкуренции — и во вред себе. В этом смысле все разговоры о реформе отечественной науки и ее взаимоотношений с экономикой и производством выглядят попыткой поправить что-то в консерватории, но не в государстве, тем более не в «государстве-цивилизации».
3.
В итоге модернизационный проект провалился. Это стало ясно почти сразу после возвращения Путина «в Кремль» в 2011 году (именно так, хотя формально он вернулся в президентское кресло весной 2012 года). Риторика модернизации, инноваций и экономики знания как по приказу сменилась духовными скрепами, идентичностью, культурным кодом и декларациями морального превосходства России над прочим падшим миром. Пусть мы изоврались, проворовались и сделали беззаконие рутиной, зато у нас не пропагандируют однополые связи и браки, а скоро русские люди еще и ругаться матом перестанут.
В данном случае «смена вектора развития» произошла быстро и организованно. Когда ничего не получается в материальном мире, естественно обратиться к духовным ценностям. Социум с вопиющей социальной и имущественной дифференциацией собирают скрепы разве что духовные. Когда ты безнадежно отстаешь от развивающихся стран в технологиях и производстве самых простых железок, логично приподнять себя на особо высокой морали. Когда ничего не брезжит в будущем, правильно развернуться к традиции, к культивированию славных побед прошлого.
Такая смена вектора не могла не затронуть отношения к науке. Доля уважения и даже подобия пиетета в официальной риторике осталась, однако из этого отношения стала заметно исчезать прагматика; наука в истории страны, а тем более в ее настоящем стала выглядеть не источником богатства и силы, но дарителем славы — и то скорее по инерции. Превращение Академии наук в «клуб академиков» вполне этому духу соответствует. Науку по-прежнему числят по разряду «национального достояния», но при этом никто всерьез не рассчитывает, что она, сама являясь символическим достоянием, будет материальное достояние нации хоть как-то умножать. Сейчас уже неловко вспоминать совершенно лишенную смысла и меры кампанию пропаганды нанотехнологий, отличающуюся от родственной хрущевской кампании лишь тем, что там кукурузу реально таки выращивали. Получив на программу искомый ресурс, кампанию оперативно свернули, хотя казалось, что уже завтра нанороботы будут собирать самолеты шестого поколения прямо из песка. Примерно та же схема сработала в Сколково. Все эти небывалые пропагандистские усилия напоминают вызывающую недоумение рекламу: «Газпром — народное достояние», в которой совершенно непонятно, что, кому и зачем рекламируют в прайм-тайм и за хорошие деньги.
Отдельная линия самодискредитации знания наметилась в гуманитарной сфере: в пропаганде истории как политической мифологии, в неприличной ангажированности опросов, которые по недоразумению называются социологией (в полном смысле они таковой не являются даже безотносительно к их качеству и достоверности).
Однако работу по демонтажу институциональных основ Российской академии наук сопровождала и массированная кампания по дискредитации российской науки в целом. Внешне все это выглядело как критика нравов академии и академиков, однако удар приходился гораздо шире. В этом была даже некоторая шизофрения: страна тратила значительные средства на продвижение положительного образа России в мире, а в это же самое время то же самое государство тратилось на дискредитацию собственной науки, в том числе в угоду очевидно частным интересам.
Нечто подобное в миниатюре произошло и с российской философией, которую пытались организованно дискредитировать при подготовке отъема здания Института философии РАН (Москва, Волхонка, 14, шаговая доступность от Кремля). Здесь также вполне очевидный приватный интерес породил кампанию, суть которой сводилась к откровенной диффамации. В ответ был собран материал, показавший впечатляющие достижения нашей философии; единым фронтом выступила мировая философская общественность, в том числе в лице виднейших институтов и мыслителей. На этом фоне само начинание «Музейного городка», заведенное во многом под аннексию соседнего особняка, выглядит гигантской мистификацией, в которой уже впору закрывать и сам проект, и его инициаторов. Однако дело движется своим чередом — точно так же, как и вся реформа академической науки: однажды созданный образ чего-то не работающего и лишнего принимается на вооружение, и пересмотр планов не планируется при любом скоплении опровергающей информации.
В вышеописанных примерах отработана модель технического выстраивания взаимоотношений между властью и наукой в целом. Здесь уже не всегда ясно, какие цели доминируют: деструктивные (связанные с разрушением сложившихся институтов научной деятельности) или созидательные (приводящие к созданию новых управленческих монстров). Так, в ходе реформы академической науки было создано ФАНО — Федеральное агентство научных организаций со стартовым штатным расписанием в 1200 единиц. В ходе такой оптимизации все академические институты перешли в управление сугубо административной структуры, даже в кадровом отношении не располагающей потенциалом для руководства цветом отечественной науки. Это понимают сами функционеры, заявляющие, что ведомство не намерено вмешиваться в собственно исследовательский процесс. Но тогда это тем более организационно-управленческая ошибка: правовой и организационно-технический потенциал руководства создается там, где руководить не собираются, но отсутствует там, где координация процесса могла бы быть профессиональной и во всяком случае более эффективной (точнее, менее вредоносной), чем в любом другом варианте.
Рассуждая даже чисто теоретически, трудно, почти невозможно сконструировать ситуацию, в которой аппарат не использовал бы возможности руководить, если таковые ему формально предоставлены. Рассчитывать на такое значит либо вовсе не знать законов бюрократии, либо сознательно вводить людей в заблуждение. Наоборот, по всем правилам функционирования аппарата бюрократия всегда пытается присвоить даже те управленческие полномочия, которые ей не делегированы. Административная экспансия — закон функционирования аппарата. Здесь сказываются и управленческий хватательный рефлекс, и простое человеческое самоутверждение, и банальное обеспечение самозанятости: необходимо постоянно генерировать все новые и новые, все более сложные, объемные и изощренные формы документооборота, в частности отчетности и планирования, чтобы оправдать собственное существование и «развитие». Именно этим в настоящее время агентство активно занимается: планово-отчетная документация, запрашиваемая от институтов и сотрудников, уже превысила абсурдные объемы такого рода переписки, вызывавшие оторопь даже в советское время.
Может показаться, что в повестке, связанной с проблемами российской науки, это не самое острое и тревожащее изменение. На первый взгляд, речь идет всего лишь о количестве и объеме планово-отчетных и справочных документов, что, конечно, отвлекает и раздражает бессмысленностью, но и только. Однако за этим просматривается и более основательная и опасная тенденция. Все отчетливее видна установка на то, чтобы наладить управление научным процессом на основе «объективных», «исчислимых» критериев, которые позволяли бы управленцу, не разбираясь в сути дела, тем не менее, опираться на якобы достоверную оценку результативности, оценивать научные планы институтов, подразделений и ученых. Отсюда в том числе вся эта страсть к библиометрии, статистике публикаций, индексам цитирования и пр. Пока речь идет в основном о сборе информации. Через некоторое время на основе этих данных будут приниматься управленческие, организационные и даже политические решения. Научное сообщество активно сопротивляется и приводит неубиенные аргументы, вплоть до информации о том, что в развитых странах использование такого рода библиометрии для принятия решений законодательно (!) запрещено для целого ряда отраслей естественных и точных наук и для гуманитарного знания в целом. Однако на ЛПР это никакого ощутимого воздействия не оказывает. Не срабатывают даже ссылки на конкретный негативный опыт (например, в Австралии с изрядной долей провинциализма тоже увлеклись было «точными методами» — и за шесть лет едва не угробили национальную науку). Трудно отказаться от «удобной» модели, тем более что без нее совершенно непонятно, каким образом эффективные менеджеры смогут руководить научным процессом, выстраивая при этом по ранжиру не кого-нибудь, а самих ученых, и не что-нибудь, а деликатный процесс производства знания. Поэтому срабатывает типовая административная, а то и политическая схема: «Решение принято!». Где была бы мировая наука, если бы она развивалась по такому алгоритму?
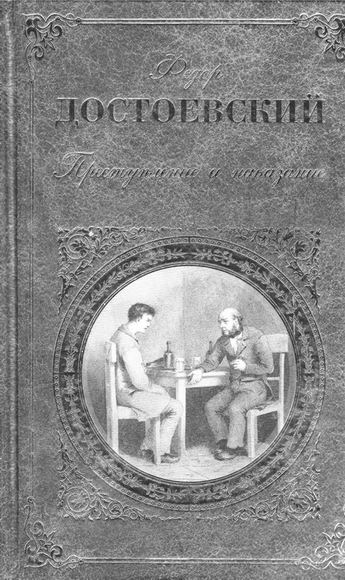
Но далее все оказывается еще более серьезным (хотя, казалось бы, куда уж). В этой тенденции просматривается общее наращивание регулятивности, исключающее какие-либо сдвиги к инновациям и опоре на знание. Это та самая гнетущая институциональная среда, которая не просто мешает развитию науки и внедрению инноваций, всего сложного и нового, — это среда, составляющая то самое институциональное проклятье, которое убивает собственное производство и сводит всю высшую арифметику этой экономики к отниманию и делению, делая практически невозможными прибавление и умножение. В этом контексте все развернутые программы поддержки отечественной науки и выстраивания ее связей с экономикой ровно ничего не стоят, поскольку даже при идеальном воплощении этих проектов интеллектуальный продукт попадает в среду, его активно отторгающую. Это та же самая регулятивная среда, которая сейчас выстраивается и внутри самого научного процесса. Но это и главная характеристика всей социально-экономической системы, в которой регулирование является доминирующим и самодостаточным, самоценным и ориентированным на получение прибыли именно в самом процессе управления и контроля, а не в процессе производства знаний, изделий или продуктов. Поэтому здесь не исключена «поддержка» НИОКР, дающая материал для перераспределения, в обиходе именуемого «распилом», но исключено снятие избыточных барьеров, поскольку именно на этих барьерах и наращивается административная рента. Классический случай форсирования мотора при заблокированных тормозах. Согласно легенде, так блондинка однажды сожгла на Рублевке новый феррари.
В этом плане показателен проект Сколково. Специальным законом этот проект был выведен из-под всех удушающих процедур согласования, экспертизы, обязательного нормирования, контроля и надзора — все оставлено «на усмотрение управляющей компании». Однако даже если допустить, что когда-нибудь в этом заповеднике творческой и предпринимательской свободы вдруг будет что-то сгенерировано, этот продукт, выйдя за сколковские ворота, окажется все в той же мертвящей среде, которая, собственно, и составляет главную суть «проблемы невнедрения».
Круг замыкается, причем не только для науки и технологий, но и для всякой креативности, для всего нестандартного. Если в стране истребляют инакомыслие, в ней создается атмосфера, делающая всякое открытие или изобретение бессмысленным подвигом. Инновационные системы выглядят неуместными анахронизмами в обществах, взявших курс на агрессивный традиционализм.
Что же касается собственно науки, то ее судьба оказалась буквально вырванной из рук самих ученых и переданной вновь созданным (причем на ровном месте) административным структурам. Пока действует годичный мораторий на принятие радикальных организационных и финансовых решений, вызванный полной неготовностью новых структур разобраться в наследстве РАН. Но рано или поздно ограничения будут сняты, и процесс тогда может принять самые разные формы. Некоторые надежды связаны с тем, что этому стилю администрирования вообще свойственно проваливать не только чужие, но и свои же собственные проекты. И хотя разрушения здесь удаются лучше, чем созидание, окончательно сломать сложившуюся в России исследовательскую систему может оказаться не так просто, как это видится из ситуации кавалерийской атаки (хотя основательно навредить здесь, конечно же, не проблема).
4.
В этих условиях приходится выходить на новый этап пересмотра повестки: вырабатывать стратегию и конкретные формы выживания в условиях, когда наука и знание в целом теряются в тени государственного идеологического оккультизма на грани мракобесия, а линия поведения власти все более начинает определяться тактическим лавированием в преддверии кризиса, но не стратегическими долгосрочными мотивами, без которых наука всегда представляется лишней обузой.
В такого рода кризисных ситуациях наука оказывается перед необходимостью нового самоопределения — и в отношении самоё себя, и в плане адресности обращения со своими проблемами и предложениями. Зачем нужна наука, когда все хорошо в ней самой и в ее взаимоотношениях с обществом, достаточно понятно. Но до сих пор не вполне ясно, к кому ей обращаться в условиях, когда рациональность уступает место манипулированию сознанием и инстинктами, а в практическую значимость местного знания уже мало кто верит.
Вежливые или, наоборот, азартные игры с государством явно более не проходят. В ходе подготовки и проведения реформы академий ученых неоднократно самым банальным образом обманывали, причем не как-нибудь, а отзывая обещания, данные публично и на высшем уровне (оправдать смену позиции для власти в таких случаях не составляет труда). Типичный случай — так и не выполненное обещание назначить на первый срок руководителем ФАНО президента РАН — «по должности». Примерно то же произошло с передачей академических институтов в непосредственное управление вновь созданному агентству. Участники переговорного процесса со стороны науки то и дело выглядели детьми, которых водят за нос взрослые люди с отработанными аппаратными навыками. Но при этом было вовсе не очевидно, что ситуацию могла бы изменить какая-либо другая линия поведения.
На начальной стадии переговоров в научной среде часто озвучивались две противоположные позиции. Одни считали, что обращение президента академии к президенту страны оправданно в любом случае, даже если надежда на успех минимальна, а переговоры выглядят полной сдачей позиций, отсутствием должной упругости, а то и вовсе унизительной и беспринципной торговлей. Другие настаивали на том, что здесь с самого начала нельзя было давать слабину, что руководство академии должно было «занять твердую позицию», отвергнуть нечестные компромиссы и возглавить стихийный протест научного сообщества, подняв институтскую общественность на борьбу «за» и «против». При этом если понимать государственный статус руководства академии (к тому же находящегося в положении избранного, но не утвержденного исполняющего обязанности), то позиция радикалов выглядела наивной и безответственной. Переговорщики от академии в известном смысле жертвовали репутацией, пытаясь предотвратить полный разгром и не спровоцировать со стороны власти еще большую агрессию (хотя это ни в коей мере не отменяет в отдельных случаях и мотивов сделки ради самосохранения, в том числе под угрозой шантажа). Однако по итогам всей этой операции отношение к радикалам начало постепенно меняться; во всяком случае мысль, что академия могла использовать свой исторический шанс и хотя бы попытаться «встать единой стеной», со временем стала казаться не такой уж безответственной. Особенно это стало заметным после того, как оказалось не очень понятным, какие еще позиции можно было потерять от действий пусть даже куда более разъяренной власти.
 Кроме того, сама власть в этих условиях отнюдь не была консолидированной: позицию РАН поддерживали многие ключевые фигуры в правительстве. Понятно, что интерес инициаторов погрома в академии был куда более весомым и концентрированным, чем вялая заинтересованность ряда пусть даже ключевых министров и руководителей ведомств (в том числе и силовых). Однако трудно сказать, как повели бы себя эти политики, если бы академия в тот момент проявила куда большую готовность к сопротивлению и создала бы единый фронт руководства и низовых протестных инициатив. А так линия была вполне понятной: зачем идти на острый конфликт ради академии, если академия сама не настроена идти на острый конфликт ради самосохранения? Хотя вполне могла сработать и другая версия: если озлобить первое лицо, при нашем импульсивном авторитаризме вторые лица, пусть хоть трижды силовые, могли счесть за благо и вовсе промолчать.
Кроме того, сама власть в этих условиях отнюдь не была консолидированной: позицию РАН поддерживали многие ключевые фигуры в правительстве. Понятно, что интерес инициаторов погрома в академии был куда более весомым и концентрированным, чем вялая заинтересованность ряда пусть даже ключевых министров и руководителей ведомств (в том числе и силовых). Однако трудно сказать, как повели бы себя эти политики, если бы академия в тот момент проявила куда большую готовность к сопротивлению и создала бы единый фронт руководства и низовых протестных инициатив. А так линия была вполне понятной: зачем идти на острый конфликт ради академии, если академия сама не настроена идти на острый конфликт ради самосохранения? Хотя вполне могла сработать и другая версия: если озлобить первое лицо, при нашем импульсивном авторитаризме вторые лица, пусть хоть трижды силовые, могли счесть за благо и вовсе промолчать.
В этой ситуации в отдельном проявлении обозначилась более общая проблема — отношения науки к политике и власти в принципе как отдельный сюжет политической, социальной и интеллектуальной истории, включая историю общественной морали.
В некотором смысле это и вовсе почти метафизическая проблема соотношения научной истины и политической позиции. Известно, что великий диссидент академик Сахаров был столь однозначен и бесстрашен в своих политических установках, поскольку относился к ним как к роду доказанной и неопровержимой научной истины — как к факту, вполне верифицированному и никак не фальсифицированному. А это уже не вопрос личной позиции отдельной героической личности в ее локальном противостоянии с властью. По большому счету это вопрос особой «плотности» ученого сообщества в отстаивании принципов как таковых. В этом отношении люди знающие и верующие (знающие истину и истинно верующие) составляют примерно одну породу. Наука всегда давала человечеству помимо собственно знаний еще и образцы стойкости, иногда жертвенной. Понятно, что превращение науки в крайне затратную мегамашину, сложнейшим образом встроенную в систему социума, многое изменило. Однако есть надежда, что все же не принципиально. Это не отменяет и знакомой позиции академического нейтралитета, когда наука и знание воспринимаются высшей ценностью, подобно церкви у верующих, сохранение которой в любых обстоятельствах и на любых условиях есть священный долг. Однако это не исключает и моментов, когда именно ради высших ценностей науки и знания возникает потребность в жестком моральном сопротивлении.
Далее эта проблема переносится с политики науки, реализуемой ради науки и знания, на значение этой политики для самого общества. Общество всегда нуждается в том, чтобы в социуме существовали острова, а то и целые архипелаги независимости, если не организационной, то, во всяком случае, интеллектуальной и нравственной. Еще в Средние века наука находила приют именно в университетах, существовавших в монастырском режиме, а потому защищенных от прямого вмешательства государственной власти (при всей неоднозначности истории связей школ, университетов и монастырей). В этом смысле наука является институтом не только познания, но и верности принципам — истине и факту, как они понимаются в системе научного знания. В этом плане политический альянс науки с властью выглядит немногим менее сомнительным, чем постановка церкви на службу государству, приватизированному теми или иными политическими субъектами. Хуже нет, когда «кредо» знания и веры превращают в инструмент воспитания управляемой доверчивости населения.
В этом плане наука (хотя и не всегда являющаяся образцом политической морали и верности долгу) выступает также институтом поддержания в обществе критически необходимой доли «просто умных людей». Кроме того, это среда, в которой, возможно, более чем где-либо распространен «кодекс служения». Достаточно принять во внимание режим работы, не нормированный ни по времени, ни по затратам усилий, причем мотивации успеха и благополучия здесь, по идее, не должны стоять на первом месте, чтобы не деформировать содержание работы. Здесь же культивируются скрупулезная ответственность и жесткий самоконтроль. Все это создает научную и околонаучную атмосферу, которая имеет ценность и помимо профилирующих смыслов производства и утилизации знания. Иными словами, в цивилизованном обществе должны быть люди, так или иначе связанные со знанием, даже если при этом ничего «наукоемкого» не производится.
В этом смысле власть, загоняя науку в административное стойло и «опуская» ее как социальный институт, поступает по-своему расчетливо и дальновидно (если иметь в виду ее внутренние и локальные интересы, а не представительство интересов общества и государства, тем более на перспективу). Потенциал возмущения идеологического спокойствия остался, хотя ушло время, когда наука отстраивала свою правоту перед идеологическими властями не где-нибудь, а на кострах и в застенках инквизиции. Это такая особенная конфигурация сознания. Не случайно в группах, распространявших самиздат, подписывавших крамольные письма и выходивших на площадь, был так заметен процент людей науки или, по крайней мере, так или иначе связанных со знанием. И сейчас, судя по блиц-опросам на протестных акциях, здесь так велик удельный вес научных сотрудников и «работников умственного труда».
Вместе с тем приходится признать тот факт, что гражданское общество практически не выступило в защиту академической науки (а с ней в значительной мере и науки в целом), оставив ее в критический момент один на один с закусившей удила властью. Гражданское общество просто не опознало в науке свой же институт — и отнюдь не из последних! Отчасти этому способствовало осмысленное или подсознательное отождествление академии с государственной бюрократией. Даже со стороны подготовленных людей можно было наблюдать подобие злорадства: академия, дескать, такой погром заслужила, во-первых, засильем академиков старой школы (особенно доставалось экономистам при разного рода государственных советах), а во-вторых, тем, что занимала демонстративно конформистскую позицию, пока дело не дошло до ее собственной судьбы и интересов. При этом у людей, имеющих прямое отношение к нашей науке, странным образом выпадало из сознания, что удар наносится не по академии как собранию академиков и членкоров, а непосредственно по всей системе академических исследовательских организаций, собственно, и представляющих академическую науку как институт одновременно и познания, и особого рода социальной солидарности. Психологические мотивы такого рода аберрации по-своему понятны, однако в случившемся нельзя не признать двойного поражения: и науки, и гражданского общества в целом.
Если вернуться к повседневной работе в системе академической науки, нельзя не признать, что пока здесь особых изменений не произошло, если не считать разрастания бессмысленной и без того объемной переписки институтов, подразделений, членов советов и рядовых сотрудников с новыми бюрократическими инстанциями. Когда от ученых требуют планировать на годы вперед написание текстов с готовыми результатами, видно, что эти требования изобретали люди, не только не знакомые с особенностями исследований, но и неграмотные в общеобразовательном плане — элементарно недалекие. В то же время это пока воспринимается скорее как нечто анекдотическое, с веселой злобой. Далее возникает развилка: либо все останется на уровне обновления бумагооборота — либо через некоторое время начнутся реальные действия, связанные с реорганизацией системы и перераспределением ресурсов, и тогда и науке, и обществу в целом придется извлекать куда более серьезные уроки из происшедшего, чем до сих пор.
Пока наука показала приличную готовность и умение неформально самоорганизовываться в целях самообороны, хотя этого оказалось явно недостаточно для настоящего отпора. Но это была реакция не на прямое, непосредственно ощутимое наступление на интересы ученых как исследователей и граждан, а лишь на завоевание бюрократией плацдарма для будущего наступления. Понятно, что в массах, даже если это массы трудящихся в науке, реагируют на угрозу лишь наиболее активные и понимающие, тогда как основной состав в таких случаях дожидается массовых сокращений, закрытия институтов и пр. «Реформа» пока еще прошла скорее номинальную стадию, а во что она выльется на деле, пока неясно ни реформируемым, ни самим реформирующим. Действия такого рода всегда бывают обоюдоострыми, поэтому с некоторыми шансами можно рассчитывать и на более или менее разумную осторожность со стороны властей. (Например, если составители и заказчики пресловутой «Карты российской науки» сочтут за благо этот странный продукт больше никогда не вынимать и никому не показывать.)
Как бы там ни было, уже и самым благодушным и благополучным должно было бы стать ясно, что наука перестала быть священной коровой, обитающей в башне из слоновой кости. Теперь возможность заниматься наукой и гражданская позиция как минимум не разделены, а как максимум непосредственно связаны — если, конечно, не сводить науку к тому, что делают в ней отдельные фигуранты.
5.
Все эти рассуждения не отменяют прямой постановки основного вопроса: каковы шансы выживания, развития и адаптации науки и всей системы знания в реальной перспективе, имея в виду науку именно как институт познания и возможные практические приложения этого знания — естественные и гуманитарные. Риторический тезис «Без науки у России нет будущего!» оставляет без ответа целый ряд жестких и неприятных вопросов:

— а какое, собственно, будущее России реально имеют в виду ученые, с одной стороны, и нынешние политики — с другой?
— есть ли вообще в сложившейся макрополитической, геостратегической и, наконец, исторической ситуации у России то будущее, в котором ее наука может быть сохранена, возрождена и востребована?
— если такое будущее все же есть, то через какие перипетии и испытания предстоит пройти стране и ее науке, чтобы не совсем понятным образом дожить до этого желаемого состояния?
Ответы на эти жутковатые вопросы далеко не очевидны. Не исключено, что «голландская болезнь» (в условиях высоких цен на экспортируемое сырье сначала дешевле все купить у других, а потом нечего восстанавливать из своего) поражает не только обычное производство, но и производство знания. При этом власть, ориентированная на самосохранение в короткой и узкой перспективе, может лицемерно поддерживать неубиенную риторику «Без науки нет будущего!», а на самом деле цинично полагать, что все это большей частью умирающая обуза, которую приходится тащить через настоящее в неясное завтра из соображений политики и идеологии, символики и условного престижа, традиции и инерции — но никак не из соображений житейской прагматики. При этом можно иметь самые разные мотивы: воспринимать науку как род заведомо «бесполезного» искусства (как деятельность в режиме кантовской «целесообразности без цели») или, например, как аналог отечественного автопрома, в котором протекционизм имеет смысл только как мера предотвращения социального взрыва, а вовсе не реальной конкуренции. Однако все это не исключает возможности позиции, в категорической и утрированной форме выглядящей примерно так: науки в России в прежнем ее качестве больше нет и не будет, остались и останутся лишь отдельные единичные направления, выживающие без единой целостной системы, отставание необратимо, сползание в третий мир с фатальными последствиями вплоть до дезинтеграции и войн за «русское наследство» не предотвратить, а потому нет смысла всерьез поддерживать это полуживое якобы научное образование. В этой логике достаточно создавать видимость, подобную той, какая возникла в связи со вторым завоеванием Крыма, когда аннексия пляжа была воспринята как апофеоз глобальной крутизны на уровне «поставили Запад на колени». Наука, по большому счету, оказывается здесь атрибутом большого политического пижононажа, элементом нескончаемого ролика, в котором все научное к тому же маячит на заднем плане в виде второстепенной декорации (в отличие, например, от животного мира или церкви). Можно было бы назвать это гигантским симулякром (если бы это слово не вызывало ту же оскомину, что и вконец затертое «блеск и нищета»).
В противовес этому остается построить альтернативную прогностическую и сценарную модель, в которой у России все же было бы такое будущее, в котором наука оказалась бы востребована и ради которого имело бы смысл сохранять ее всеми силами и во всех видах не только ради коммунального престижа и трудоустройства сотен тысяч, а с сопровождающими — и миллионов работников научной сферы. Построить такую модель может только сама наука (кто же еще)? Это было бы так же логично, как и альтернативная разработка концепции основ культурной политики самой культурой, возвращающая культуре субъектность и выводящая ее из положения пассивного инструмента, которым управляют извне, чтобы, в свою очередь, управлять сознанием миллионов третьих лиц.
По самому большому счету, все упирается, с одной стороны, в систему ценностей (например, антизападничество исключает признание особой ценности рацио и позитивного знания, а в конечном итоге и науки как института), а с другой — в проектное построение приснопамятной «несырьевой альтернативы». При чем это должен быть сценарий, в котором инерция сырьевой, ресурсной модели каким-то волшебным образом («русское чудо») прерывается до того, как сырьевая экономика начинает обваливаться, увлекая за собой и всю страну с ее политикой, наукой, культурой, моралью, начальством и населением. На плаву остаются лишь бесстрастно описывающие и осмысляющие этот эпохальный обвал философы, торжествующие со своими оправдавшимися пророчествами.
Однако здесь мы упираемся в еще одну проблему, связанную с вопросом о возможности мегапроекта в ситуации постмодерна или, как минимум, с особыми условиями реализации мегапроектов в таких обстоятельствах. Если эту проблему не решить хотя бы в первом приближении, то и любые новые сценарные модели, гипотетически спасающие отечественную науку, окажутся не более чем магией в духе культов карго: гигантской имитацией научной активности и прорыва при вытеснении понимания бессмысленности проекта, по крайней мере, для туземных условий.
 В общем виде ситуация выглядит примерно следующей. Если сохраняются нынешние тенденции, уже определившиеся и лишь набирающие силу, наука в России вряд ли имеет те перспективы, на которые рассчитывают заинтересованные группы и которые в остаточном виде присутствуют в официальной риторике, по инерции еще представляющей «образы будущего». Это не означает обязательного демонтажа научного комплекса, но предполагает, что его существование в таким образом эволюционирующем «государстве-цивилизации» будет неорганичным и искусственным, если не сказать противоестественным. Уже сейчас официальный дискурс в этом плане откровенно эклектичен, причем баланс этой странной сборки сдвигается явно не в пользу науки.
В общем виде ситуация выглядит примерно следующей. Если сохраняются нынешние тенденции, уже определившиеся и лишь набирающие силу, наука в России вряд ли имеет те перспективы, на которые рассчитывают заинтересованные группы и которые в остаточном виде присутствуют в официальной риторике, по инерции еще представляющей «образы будущего». Это не означает обязательного демонтажа научного комплекса, но предполагает, что его существование в таким образом эволюционирующем «государстве-цивилизации» будет неорганичным и искусственным, если не сказать противоестественным. Уже сейчас официальный дискурс в этом плане откровенно эклектичен, причем баланс этой странной сборки сдвигается явно не в пользу науки.
Чисто теоретически изменить ситуацию могло бы возвращение к установкам на модернизацию, инновации, диверсификацию и т. п., включая и необходимую реиндустриализацию. Можно не обсуждать реалистичность такого разворота — достаточно признать, что это необходимое условие, без которого обсуждать просто нечего.
Положение дел осложняет фактор времени. Во-первых, отставание имеет все шансы стать необратимым в силу особенностей догоняющей модернизации в условиях ускоренного, а тем более сверхбыстрого развития. Во-вторых, все более обостряется проблема инерции и временного лага: смена вектора и создание несырьевой альтернативы (если допускать такую возможность хотя бы гипотетически) требует времени, строго говоря — поколений. При этом «зоны принятия решений» и «точки невозврата» страна проходит уже сейчас.
В этих условиях слом инерции если и возможен, то только в режиме очередного мегапроекта — как бы опасно и устарело все это сейчас ни выглядело.
Такого рода заявления сейчас периодически встречают суровую критику, сопровождающуюся советами сначала почитать литературу о тоталитарных смыслах проектного дискурса модерна и об отношении к таким идеям в ситуации постмодерна, в философии постмодернизма и пр.
Сразу надо оговориться, что критике проектного сознания высокого модерна и всей идеологии тотального проектирования («жизнь в макете, реализованном в натуральную величину») мало кто посвятил столько публикаций, как автор этих строк. Так что в данном случае речь идет о сознательном возврате к идеологии мегапроектов при всем понимании их опасности и архаичности.
Первое, что здесь приходится констатировать, это наличие абсолютно жесткой альтернативы: либо та или иная форма мегапроекта, адаптированного к условиям постмодерна, — либо сохранение инерции, которая никаким спонтанным образом преодолена быть не может, со всеми вытекающими последствиями для перспективы обвала или замедленной, но оттого не менее фатальной деградации сырьевой модели. Соответственно все это имеет самые прямые последствия для науки: вне такого мегапроекта она, если честно и по большому счету, всерьез не нужна, какие бы реверансы при этом по инерции ни делались. Это будет обычное удушение в объятиях.
Далее выясняется, что мы на данный момент находимся не просто в ситуации постмодерна, но уже и в ощущении надвигающейся исчерпанности этой парадигмы, порождающей мутации в духе неоклассицизма, afterpostmodernism'а и пр. Если здесь речь и заходит о мегапроектах, то уже о мегапроектах «нового поколения», преодолевающих издержки тотального проектирования модерна всего Нового времени, и в особенности XX века. Речь здесь идет не о тотальном программировании «от и до», но о проектировании рамочных условий, не сковывающих, а тем более не подавляющих живую спонтанность, но открывающих новые условия ее самореализации. В этом смысле речь идет о мегапроекте, целью которого является дерегулирование, что кардинально меняет пафос и смысл такого рода начинаний. Это те самые трансформации духа социума и институциональной среды, без которых невозможна несырьевая альтернатива, а с ней и производство чего бы то ни было, в том числе востребованного знания.
Наконец, особую проблему составляет реализуемость такого рода проектов. Это отдельный разговор, но в данном случае достаточно утверждения о том, что они осмысленны и полезны почти безотносительно к возможности их сколько-нибудь полноценного воплощения. Ориентируясь на такие проекты, мы по крайней мере будем делать шаги в правильном, нужном направлении, в том числе и в усилиях по сохранению и поддержке научного потенциала нации. В противном случае такие усилия будут лишены собственной идеологии и стратегического смысла и окажутся всего лишь ситуативными реакциями на симптомы приближающегося обвала.
Альтернативой этому (к тому же сейчас во всю силу реализуемой) оказывается вовсе не цивилизованный и продвинутый постмодерн, а циничный политический постмодернизм, когда страну переводят на откровенно мобилизационные стратегии, но без проекта (мобилизация без цели, но ради самого построения всех и вся). К тому же это постмодернизм с обязательной иронией, которая, тем не менее, присутствует у манипуляторов, но не распространяется на массу, все воспринимающую совершенно всерьез и с пафосом — вполне в духе радикального модерна. В таких условиях требование нормальной проектности и понятного целеполагания оказывается альтернативой откровенно ситуативному манипулированию, иногда с блеском решающему тактические задачи, но подрывающему общую перспективу и лишь увеличивающему цену вопроса выхода из колеи, ведущей в никуда.
В конце концов, не все исчерпывается такого рода прагматикой. Когда нет приемлемого прагматического выбора, остается выбор моральный. К науке это также имеет самое прямое отношение — и как к институту знания, и как к особого рода социальной организованности.
Вернуться назад