Журнальный клуб Интелрос » НЛО » №154, 2018
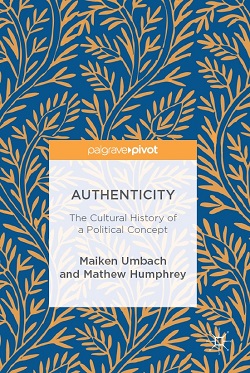
Umbach M., Humphrey M.
Authenticity: The Cultural History of a Political Concept
L.: Palgrave Macmillan, 2018. — IX, 144 p.
В 1964 г., на волне постадэнауэровского пересмотра нацистского прошлого и отношения к нему в послевоенной Германии, Т. Адорно опубликовал книгу «Жаргон подлинности» (рус. пер. 2011), в которой порицал язык сочинений М. Хайдеггера за напыщенное и высокопарное восхваление настоящего опыта бытия, к которому якобы оказалась неспособна европейская культура Нового времени. Однако, как отмечают в книге «Подлинность: культурная история одного политического понятия» Мейкен Амбак и Мэтью Хэмфри, сам Адорно в «Философии новой музыки» (1949, рус. пер. 2001) противопоставлял использование обманных эффектов подлинности у И. Стравинского раскрытию настоящего опыта аутентичного (Authentizität) у А. Шёнберга.
По мнению Амбака и Хэмфри, подобная ситуация типична для многих последующих споров как в философии, так и в политике, когда отрицание подлинности, утверждаемой оппонентом, означает попросту иное понимание подлинности. К началу XXI в. отсылки к подлинности в публичном дискурсе стали вездесущими. Считается, что политик должен выглядеть естественно, а его убеждения — быть настоящими, не следующими за изменчивой конъюнктурой. Происходит восхождение фигуры «выглядящего настоящим политика» («authenticity-politician»), причем по всему периметру политического спектра. Отсылка к подлинности избавляет от необходимости теоретических обоснований, ее признание основывается на «здравом смысле» и на интуитивных представлениях о настоящем, реальность как будто сама говорит за себя. Все это делает особенно важным критическое исследование тех представлений о подлинности, что задействуются сегодня как политиками, так и в более широком культурном поле. Авторы книги ограничиваются понятием «подлинность», хотя и соглашаются с М. Берманом, писавшим, что требуется изучение целой сети взаимосвязанных понятий: «идентичность», «автономность», «индивидуальность», «саморазвитие», «самореализация», «собственное дело» и др. (Berman M. The Politics of Authenticity: Radical Individualism and the Emergence of Modern Society. L., 1970. Cм. также: Rossinow D. The Politics of Authenticity: Liberalism, Christianity, and the New Left in America. N.Y., 1999).
Амбак и Хэмфри полемизируют с Л. Триллингом, который в своем уже классическом исследовании «Искренность и подлинность» (Trilling L. Sincerity and Authenticity. Cambridge, MA, 1972), написанном под впечатлением от контркультурных движений 1960-х гг., рассматривал современное ему стремление к подлинности как реакцию на длительное доминирование культуры модернизма, в которой поощрялось критически-дистанцированное отношение к действительности. Особенно характерно это было для американского послевоенного неомодернизма с ключевой для него оппозицией китча и авангарда, введенной К. Гринбергом: китч поддерживает иллюзорную видимость настоящего, авангард же ее оспаривает, одновременно обращая внимание публики на собственную сконструированность, условность. Для Триллинга искренность и подлинность оказывались проявлением характерно ньюэйджевского стремления «открыть подлинного себя»; причем если в XIX в. искренность подразумевала честность в отношении социального окружения, готовность вести себя предсказуемо, быть надежным человеком, то в ХХ в. возобладало представление, что искренность требует разрыва с социальными условностями, активного отстаивания собственной автономии перед лицом предъявляемых обществом требований.
Итак, авторы не соглашаются с Триллингом, указывая, что противопоставления индивида обществу может не быть и в современных отсылках к подлинности, как в случае националистических идеологий. Кроме того, каждый раз, когда заходит речь о подлинном и изначальном, задействуется историческое воображение, и это происходило не только в XX–XXI вв.: представление об истоке, по отношению к которому позднейшее состояние является искажением, имеет давнюю историю. Так, во второй главе рассматривается образ райского сада, который описывается в Библии весьма неопределенно, что и позволило ему стать своего рода «пустым означающим», на которое могли проецироваться самые разные представления о желательном устройстве мира. Авторы указывают на значение этого воображаемого подлинного начала для садового искусства раннего Нового времени, стремившегося воссоздать радости Эдема или античные идиллии, как они были изображены в поэзии Феокрита или живописи Никола Пуссена и Клода Лоррена. Увлечение ботаникой в эту эпоху было связано с желанием восстановить единство природного многообразия, существовавшего в раю. Возникающая в XVII в. экспериментальная наука была во многом связана со стремлением вернуть человеку способности, которыми он обладал до грехопадения (микроскоп делает нас подобными Адаму в способности видеть мелкие детали и т.д.). И сегодня, как показали проведенные авторами книги опросы, природа в первую очередь ассоциируется с подлинным. Неудивительно, что эти понятия активно эксплуатируются экологическими движениями. Стремление бежать из городов к первозданной природе, в частности на морское побережье, появляется, однако, только в XVIII в. Тогда же возникают и представления о не испорченных цивилизацией дикарях, которые ведут настоящую жизнь в гармонии с природой, что потом найдет отражение в живописи Гогена или, например, в романах Карла Мая (Penny G.H. Elusive Authenticity: The Quest for the Authentic Indian in German Public Culture // Comparative Studies in Society and History. 2006. Vol. 48. P. 798–819).Обширный архив позитивных представлений о природе, возникших в разных исторических обстоятельствах, присваивается современными дискурсами подлинности и превращается во вневременной.
Третья глава посвящена знаменитому вопросу Адорно из «Minima moralia» (1951): возможна ли настоящая жизнь среди ложных социальных отношений? Авторы рассматривают сначала руссоистскую социальную критику и ее рецепцию в Германии конца XVIII в., показывая, что освободительная идеология подлинности легко превращается в консервативно-националистическую: в гравюрах Д. Ходовецкого аффектированному французскому позерству противопоставлялся простой и естественный образ жизни немцев; у И.Г. Гердера каждый народ оказывается обладателем уникального характера, который утрачивается в беспорядке современной жизни; братья Гримм принимаются за составление словаря — сокровищницы подлинного немецкого языка, который должен быть спасен от разрушения. В качестве противоположного примера, т.е. примера использования политически правой философии в либеральных целях — рассматриваются мифология подлинности у Хайдеггера и ее переосмысление Целаном в послевоенное время. Настоящее существование может, однако, располагаться не только в прошлом, как у Руссо и Хайдеггера, но и в будущем, как у Маркса, положительно отзывавшегося о капитализме как избавляющем от «идиотизма сельской жизни»; так же и преодоление капитализма социализмом оказывается реализацией подлинных способностей человека, не подчиненного более воспроизводству прибыли.
Можно не согласиться с Амбаком и Хэмфри в трактовке отдельных фигур (в частности, с отнесением в антилиберальный лагерь братьев Гримм, протестовавших против отмены ганноверской конституции и уволенных за это вместе с пятью другими профессорами из Гёттингенского университета), но в целом авторы убедительно показывают, что в целях социальной критики понятие подлинности может конструироваться прямо противоположными способами. Пример с Марксом, однако, делает особенно заметным то, что и в этой, и в предыдущей главах история подлинности в значительной степени является иначе названной историей утопического мышления, а критика подлинности — критикой стремления вообразить социальное устройство, радикально отличающееся от ныне существующего (якобы ложного). Авторы пишут о подлинности как о «пустом означающем», на которое удобно было проецировать представления о желательном; эту мысль можно продолжить, используя ту же лаканианскую терминологию: «борьба» с подлинным сама оказывается утопической борьбой с неприятной работой желания, постоянно продуцирующего образы, которые не позволяют довольствоваться уже имеющимся, создающего пафический (по терминологии Ж. Рансьера) избыток, который мешает ясному, контролируемому функционированию политического языка, а также связанных с ним властных структур. Как сказал бы А. Бадью, травматическому событию любви, радикально меняющему жизнь, у Амбака и Хэмфри противопоставляются ни к чему не обязывающие неподлинные связи; это особенно заметно в четвертой главе, где рассматривается фигура «выглядящего настоящим политика».
Авторы отмечают, что политики вроде Дж. Корбина или Б. Сандерса пользуются поддержкой в основном молодых избирателей, все еще верящих в возможность подлинных отношений между людьми. Биографии этих лидеров подкрепляют подобные иллюзии: они сами в молодости участвовали в университетских сидячих забастовках и в движении за ядерное разоружение, проявляли солидарность с палестинцами. Оставаясь верными своим взглядам, они долгое время были политическими аутсайдерами. Между тем, реальная политика требует способности идти на компромиссы и учитывать меняющиеся политические обстоятельства. Аргументы авторов выглядят убедительными: культивирование имиджа принципиального политика мифологизирует реальные процессы функционирования власти; стремление к подлинности как фактор политического выбора привносит в политику иррациональное, тогда как принятие решений должно быть максимально осмысленным. Нельзя не отметить, однако, что стремление Амбака и Хэмфри к демифологизации подлинности граничит порой с цинизмом (ср.: Слотердайк П. Критика цинического разума. Екатеринбург, 2001).
В последней, пятой главе подлинность рассматривается как элемент современных маркетинговых стратегий, создающих новые сегменты потребления. В отличие от критиков 1960-х гг., осуждавших потребительскую культуру как ложную, как элемент «общества спектакля», Амбак и Хэмфри указывают, что отношение людей к товарам вовсе не обязательно сводится к тому, как эти товары позиционируются производителями (ср.: Серто М. Изобретение повседневности. СПб., 2013. С. 100–118). Предметы потребления могут становиться элементом альтернативных, контркультурных или просто особых индивидуальных практик, позволяющих людям выстраивать собственные идентичности. Рынок, подстраиваясь под эти практики, демократизирует представления о подлинности, лишая политические и корпоративные элиты монополии на ее определение. До тех пор, пока люди будут задаваться вопросами «Кто я?» или «Что я должен делать?», будет существовать и рыночный спрос на подлинность, а также на соответствующие политические идеологии.
Вместо того чтобы проблематизировать такие вопросы, как это делали, скажем, Фуко в его исследованиях субъективности или Хайдеггер, критиковавший постсократовскую метафизику субъекта, авторы в конце книги неожиданно занимают примирительную позицию, заявляя, что поскольку есть вечные человеческие вопросы, то всегда будет существовать и потребность в подлинном ответе на них. Попытки бороться с такими ответами оборачиваются скрытым властным утверждением иной формы аутентичного. Описывая преимущества демократичного рынка, предлагающего многообразные определения подлинности, авторы не забывают о вышеупомянутых теневых сторонах этого понятия, связанных с национализмом, Холокостом и просто иррациональностью в политике, однако главная опасность в итоге исходит не от подлинности как таковой, а от тоталитарных попыток однозначного ее истолкования. Подобно тому как Латур рассуждал о разной ценности критических приемов в зависимости от политических обстоятельств (Латур Б. Почему выдохлась критика? От реалий фактических к реалиям дискуссионным // Художественный журнал. 2015. № 93. С. 14–31), Амбак и Хэмфри считают, что все дело в способах рыночного позиционирования подлинности. Но если у Латура отсылка к политике подразумевала личную ответственность за выбор эссенциалистской или конструктивистской критической позиции, — что, впрочем, не является гарантией отсутствия злоупотреблений, — то в случае с рынком как анонимной и не вполне контролируемой силой, особенно для рядового потребителя, остается лишь уповать на благоприятную конъюнктуру.
Евгений Савицкий

Translation in Russian Contexts: Culture, Politics, Identity / Ed. by Brian James Baer and Susanna Witt.
N.Y.; L.: Routledge, 2018. — 349 p. — (The Routledge Advances in Translation and Interpreting Studies, 26).
Сборник «Перевод в русских контекстах: культура, политика, идентичность» включает в себя 20 работ разных авторов, охватывающих практически всю историю русской литературы, от Средневековья до современности. Поскольку работ слишком много, чтобы даже коротко их аннотировать, и они слишком разнообразны по материалу и подходу (и при этом организованы в сборнике просто по хронологическому принципу), чтобы можно было их систематизировать, приведем в переводе Содержание, после чего попробуем описать некоторые общие проблемы исследования отечественного перевода с помощью языка современного переводоведения:
Часть I. Досоветские контексты: Карин Акерман Саркисян.Переводческие стратегии в средневековой агиографии: о славянской рецепции византийской Жизни святого Онуфрия; Татьяна Петровскаяи Анастасия Уржа. Вербализация метатекста в ранних и в современных русских переводах; Кер Йохан Миор. «Мать всех наук и художеств»: академическая философия в России XVIII века как культурный трансфер; Анна Гюст. Перевод как присвоение: русский оперный репертуар XVIII века; Ольга Демидова. Русские женщины-переводчицы XVIII века в истории русской женской литературы; Юлия Тихомирова. Выражать другого, переводить себя: переводческие жанры Ивана Козлова; Мария Костёнова. Чарльз Диккенс в России XIX века: литературная репутация и трансформации стиля; Ларс Клеберг. Перевод как эксперимент: «Пан Тадеуш» (1916) Ивана Аксенова.
Часть II. Советские контексты: Катерина Кларк. Трансляция и транснационализм: советская власть и неевропейские писатели в 1920–1930-е годы; Екатерина Кузнецова. Превращения Хемингуэя в советской России: перевод «По ком звонит колокол» Наталии Волжиной и Евгении Калашниковой; Елена Земскова. Советский фольклор как переводческий проект: на примере «Творчества народов СССР», 1937; Валерий Вьюгин.Западные монстры — советские любимцы? Трансляция и транскультурализм в советской детской литературе; Александра Борисенко. «Кто хороший, тот смеется»: британская детская литература в советской России; Мария Хотимски. «Десятая муза»: переосмысляя поэтический перевод советской эпохи; Катарин Ходжсон. Переводя другого, сталкиваясь с собой: советский поэт Борис Слуцкий — переводчик Бертольта Брехта.
Часть III. Позднесоветские и постсоветские контексты: Пьет Ван Пук. (Пере)перевод, идеология и бизнес: судьба переводной приключенческой литературы в России до и после 1991 года; Алексей Семененко. «Прощай, прощай и помни обо мне»: канон «Гамлета» в постсоветской России; Елена Островская. Поэтический перевод и канон: случай русского Одена; Виталий Чернецкий. Литературный перевод, квир-дискурсы и культурная трансформация: Могутин-переводчик/переводчики Могутина; Даниэль Монтичелли и Энекен Лаанес. Борьба за исключение: «русский» писатель без гражданства и его переводы в современной Эстонии.
По внешним признакам европейское переводоведение (translation studies) — полноценная академическая отрасль со своими кафедрами и профессорскими позициями, грантами и конференциями, хрестоматиями, монографиями, сборниками и периодическими изданиями. В частности, рецензируемая книга вышла в посвященной проблемам перевода специальной серии, по материалам международной конференции «Перевод в русских контекстах: Транскультурные, трансъязыковые и трансдисциплинарные точки отсчета», проходившей в университете Уппсалы в 2014 г.; она включает необходимые для приличного европейского научного проекта темы (женщины-переводчики, квир-переводчики, переводы этнически и социально маргинальных групп писателей). Долгое время считалось, что история и теория перевода — это один из аспектов сравнительного изучения культур. При этом первоначальное, философско-лингвистическое понимание перевода, укорененное в теории и практике немецких романтиков и вдохновлявшееся в представлении о своих предельных горизонтах «Задачей переводчика» Вальтера Беньямина, в работах Юджена Найла, Гидеона Тури, Антуана Бермана, Андре Лефевра, Джорджа Стайнера 1960–1970-х гг. было интеллектуально весьма увлекательно. С начала 1980-х гг., когда translation studies обрели академическую институциализацию, стали возникать разные специализированные и более прикладные «теории» (см. неоднократно переиздававшуюся хрестоматию Лоренса Венути (Lawrence Venuti) «The Translation Studies Reader». Routledge, 2000). Судя по вступлению редакторов к сборнику «Перевод в русских контекстах», сейчас переводоведение придерживается «дескриптивного» подхода, соотносящего перевод не с подлинником, а с контекстом принимающей культуры, а также повторяет путь «постколониализма», пройденный гуманитарными науками, делая акцент на «децентрализованной» точке зрения (в географическом, гендерном, каноническом, социальном и проч. аспектах). Приходится предположить, что именно по ведомству «постколониализма» проходит тема перевода в русском контексте, которую составители и многие авторы сборника объявляют мало изученной.
На самом деле, проблема в том, что иностранные исследователи и пишущие для англоязычных — даже славистических — сборников отечественные следуют конвенции ссылаться преимущественно на новейшие англоязычные исследования, сборники, антологии (поэтому наиболее востребованной оказывается фигура русского слависта, освоившегося в западном научном контексте и популярно «переводящего» отечественную историко-литературную науку на язык западной теории и обратно, а именно многократно цитируемая в настоящем сборнике написанная на английском книга Сергея Тюленева «Translation and the Westernization of Eighteenth-Century Russia: A Social-Systemic Perspective» (Berlin, 2012)), которые для отечественного филолога обычно сообщают хрестоматийные, базовые, полученные из вторых рук сведения, часто неверные из-за недостаточного знания именно всех деталей «русских контекстов». В настоящем сборнике это прежде всего относится к работам, посвященным XIX веку, которые каким-то образом обходятся без упоминаний А.Н. Егунова, Н.И. Мордовченко, В.Э. Вацуро, Ю.Д. Левина (на последнего несколько раз ссылаются, но лишь на самые общие его высказывания), наконец, без биографического словаря «Русские писатели 1800–1917». Пока сделанное русской (и советской) историко-литературной наукой, особенно пушкинистикой, не станет для западных исследований common knowledge, они, при всей ценности и оригинальности приложения теоретических подходов к отечественному материалу, останутся в большой степени соединением общих мест с внеисторическим исследованием отдельных маргинальных и «модных» с современной точки зрения тем.
Если авторы первой части — названной составителями «досоветской», что сразу маркирует фокус их научных интересов, — по большей части вычленяют из «своих» славистических тем что-то, касающееся перевода, и стараются использовать современную переводоведческую терминологию — в большинстве случаев для них бесполезную, то во второй и третьей частях, посвященных «советской» и «постсоветской» эпохам, когда феномен «перевода» как раз в том его современном понимании, которое определяет теоретические презумпции переводоведения, являлся частью культуры «глобализации», есть ценные работы, посвященные собственно переводу, — и для них современный переводоведческий язык оказывается более полезен.
Несмотря на значительный элемент случайности в выборе тем составивших сборник работ и на получившуюся в результате разительную неполноту в описании перевода в соответствующие эпохи отечественной культуры — неизбежную при таком широчайшем хронологическом охвате и ошибочном представлении о малой изученности темы (в книге ни разу не упоминаются многие крупнейшие отечественные переводчики, определившие переводческий и во многом общелитературный ландшафт своих эпох, — Н.М. Карамзин и Н.И. Гнедич, А.А. Франковский и А.А. Смирнов), несмотря на то что описание многих славистических тем языком современного переводоведения довольно редко открывает в них что-то новое, заставляя усомниться в том, следовало ли «translation studies» так настаивать на своей научной автономии — не лучше было бы оставаться аспектом других гуманитарных наук, в полной мере «питаясь» ими всеми, — сборник «Перевод в русских контекстах» важен как шаг на пути к включению истории отечественного перевода в контекст современной гуманитарной науки, к переоценке его во многом в свое время политически мотивированных авторитетов.
Мария Баскина
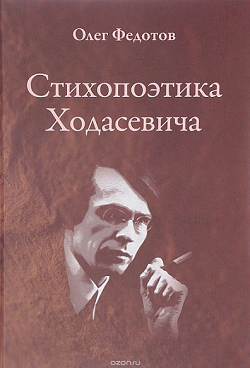
Федотов О.И.
Стихопоэтика Ходасевича
М.: Азбуковник, 2017. — 432 с. — 1000 экз.
В. Ходасевичу повезло. Ни о каком другом поэте, даже о Пушкине, стиховеды не написали книгу объемом более чем в 35 условных печатных листов.
Но эта работа не чисто стиховедческая. Дать стиховедческий комментарий к текстам поэта высочайшей версификационной культуры — лишь одна задача, которую ставит перед собой О.И. Федотов; вторая — выявить «как объективные, уже отстоявшиеся аффективные ореолы метрических, ритмических, строфических и фонических компонентов версификационного строя его стихотворений, так и субъективные представления о них поэта», третья — синтезировать целостный анализ текстов со стиховедческим аппаратом «для дальнейшей апробации вызревающей специфической филологической дисциплины — стихопоэтики» (с. 6).
Пока действительно еще вызревающей. Автор идет от стиховедения, две части книги называются «Метрика и ритмика» и «Строфика», внутри них содержится анализ отдельных стихотворений, сгруппированных по принципам размера стиха и объема строфы. Но ритмике уделяется внимание далеко не во всех случаях, причем учитывается только ритм ударений без дифференциации на сильные и слабые, о ритме словоразделов речи нет, общие тенденции в этом отношении не прослеживаются. Строфика Ходасевича лишь по принципу объема сопоставляется со строфикой Ф. Сологуба, Волошина, Набокова и Цветаевой (с. 280) без указания источников подсчетов, но относительно главной характеристики стиха — метрики — контекста вовсе нет, а своеобразие стиха данного поэта лучше всего выявляет фон. Так, по подсчетам М.Л. Гаспарова, в метрическом репертуаре поэзии 1900–1925 годов соотношение ямбов, хореев, трехсложников и неклассического стиха было около 50: 20: 15: 15 (см.: Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха: Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. М., 1984. С. 208, 260, 263). У наследника классической традиции Ходасевича, по подсчетам О.И. Федотова на материале тома стихотворений в «Библиотеке поэта», ямбов — 64,0%, хореев — 14,9%, трехсложников — 11,7%, дольников — 4,9%, остальных форм — 2,9% (с. 9–10). Отличие от средней тенденции весьма существенное. В XX веке пятистопный ямб решительно вытесняет шестистопный. У Ходасевича тоже, но постоянно смешивается с шестистопным. Близко к среднему соотношение дактиля, амфибрахия и анапеста: в среднем оно составляет 3: 3: 4 (позже доля анапеста резко растет), у Ходасевича всех трехсложников по 3,9%, тенденции к усилению анапеста нет. Дольник в первой четверти века составлял 50% от неклассических форм. У Ходасевича он почти один их представляет, остальные не силлабо-тонические формы — это два верлибра, три логаэда, семь имитаций античных размеров и одна шуточная имитация архаичной силлабики.
Впрочем, без количественных сопоставлений индивидуальные особенности отдельных форм у Ходасевича Федотов выделяет, например склонность к амбивалентным (допускающим различные интерпретации) ритмическим формам или тяготение вольных ямбов к полиметрии — их сочетанию с пятистопниками, когда «отступления от метрической доминанты играют роль своеобразного ритмического курсива» (с. 215). Сами пятистопники соединяются со стихами не только большей, но и меньшей стопности, в них автор пренебрегает традиционной цезурой и много переносов. По мнению исследователя, это ведет к прозаизации стиха. Записанное в строчку произведение «У старого хозяина в дому...» из трех абзацев он именует «урегулированной стихопрозой» и сопоставляет с опытами Андрея Белого, создававшего нерасчлененные цепи трехсложных стоп, хотя тут же отмечает, что эти абзацы «можно интерпретировать как три катрена вольного ямба со стопностью 5 — 4 — 6 — 7, при доминирующей роли 5-стопника» (с. 32). Такие формы точнее было бы сравнивать с формами типа «Песен» Горького о Соколе и Буревестнике, а особенно поэмы «Человек» или миниатюр М. Шкапской, которые М.Л. Гаспаров называл «мнимой прозой» (см.: Гаспаров М.Л. Русский стих начала XX века в комментариях. М., 2001. С. 18–19).
Разные интерпретации допускает не только ритмика. Например, стихотворение «На прогулке», во-первых, «можно представить как одиночное 9-стишие АВВВАсссА. Во-вторых, — как два трехстишия (ВВВ и ссс) с рефреном (А...А...А). И наконец, в-третьих, как два цепных четверостишия (АВВВ+Ассс) с первой строкой следующего, неполного (+А)» (с. 62). Но здесь вопрос, пожалуй, переусложняется. В начале части «Строфика» Федотов признает: «Строфика не была любимым коньком в версификации Ходасевича. Строфический репертуар поэта подчеркнуто аскетичен» (с. 279). Однако он, больше всех в мире занимавшийся сонетами и их дериватами, не удержался от того, чтобы не сказать про конструкцию из 12 строк с рифмовкой аВВаа
СаСаДаД, что она «отдаленно напоминает сплошной сонет, в котором все мужские окончания составляют сквозную рифменную цепь», поскольку здесь «хорошо различимы три катрена: один охватный и два — перекрестной рифмовки» (с. 283), но ведь нет ни терцетов, ни заключительного двустишия, как в английском сонете (с одними перекрестными катренами!). Аналогично в совершенно необычной конструкции аВсасВа усматривается «полусонет с нетрадиционной рифмовкой и нетрадиционным графическим оформлением (5+2)» и в десятистишной конструкции aa bb ccc ddd — «безголовый аномальный сонет, в котором катрен заменен двумя двустишиями, а терцеты тремя трехстишиями» (с. 307, 308); заодно утверждается, что «одиночное восьмистишие AbAbСbCb можно описать как дериват четырех графически объединенных газелл, с намеком на триолет и сицилиану, где все четные стихи скреплены тавтологической рифмой <...>» (с. 285), — будь у Ходасевича, с его аскетической (!) строфикой, правильные газеллы, триолеты и сицилианы, еще можно было бы предполагать «намеки» на них.
Остальные характеристики стиха бесспорны. Естественно, большее внимание уделяется не самым распространенным размерам и строфам, которые экспрессивно нейтральны и не создают особых художественных эффектов. А, например, «в трактовке эмфатических ореолов 4-стопногодактиля» поэт «придерживается традиционной минорной тональности, которую он приобрел еще в XIX веке» (с. 68). Федотов не пропустил и редкую параллель к редкой форме. Односложных сонетов у Ходасевича два — здесь исследователь вышел за пределы однотомника «Библиотеки поэта», где такой сонет один, — и приводит не русский аналог, а, вслед за Н. Берберовой, французский — Альбера де Ресгье 1835 года.
При анализе стихотворений со смысловой и содержательной сторон контекст используется несравненно шире, чем при анализе стиха. Так, рассматривая стихотворение «Сон», Федотов вспомнил сны персонажей мировой литературы от Агамемнона в «Илиаде» и Святослава в «Слове о полку Игореве» до Раскольникова и Облонского, да еще добавил: «Интертекстуальные связи стихотворения просто необозримы: среди своих предшественников Ходасевич мог бы назвать и Данте, и Шекспира, и Лесажа, и Гофмана, и Пушкина, и Погорельского, и Гоголя, и Достоевского, и Сологуба, и всех остальных своих современников, не избежавших эпидемии демонологии, поразившей весь Серебряный век» (с. 235–236). Есть тут и характерный мотив раздвоенности, раздельного существования души и тела, «экзистенциального пересечения границы между жизнью и смертью», лучше всего выраженный в стихотворении «Когда б я долго жил на свете...» (с. 260). Ласточки залетали в произведения русских поэтов от Державина до Рубцова, а в нашем случае «особенно актуально их взаимодействие со стихотворением О. Мандельштама „Ласточка“ („Я слово позабыл, что я хотел сказать...“), написанным в 1920 г. как раз в то время, когда Ходасевич и Мандельштам квартировали по соседству в круглых комнатах ДИСКа» (с. 160). В «Ласточках» Ходасевича, вдвое более кратких, твердая интонация высказывания «форсируется в том числе и на ритмическом уровне: всего три стопы из двадцати остались без ударения» (с. 162). Иногда имело место практически подражание. «„Зарница“ отчетливо напоминает как своей образностью, так и исключительно характерной ритмикой 4-ст. ямба с чередованием дактилических и мужских клаузул (A’bA’b) хрестоматийно известные стихотворения Брюсова „Молния“, 1904, и Блока „Незнакомка“, 1906. Сравнительно недавно написанные, они были у всех на слуху, неудивительно, что их острый ритмический узор вызвал у молодого поэта и соответствующие почти дословно совпадающие с образцами тематические ассоциации» (с. 253). Пожалуй, «необычная для 5-ст. ямба строфическая форма двустишия со сплошными мужскими окончаниями» (с. 249) в незаконченном стихотворении 1927 года «Мы» («Не мудростью умышленных речей...») могла бы дать повод к тому, чтобы сопоставить его не только — по содержательным признакам! — со стихотворением Тютчева «Problème» («С горы скатившись, камень лег в долине...»), книгой Мандельштама «Камень», «Шестым чувством» и «Камнем» («Взгляни, как злобно смотрит камень...») Гумилева, но и со стихами того же Гумилева именно в этой строфической форме, особенно с «Раем», где христианская образность коррелирует с античной мифологией у Ходасевича. Его «тигры и слоны» напоминают также доисторических животных М. Зенкевича, еще одного акмеиста. Сравнивая хореическое стихотворение «НЭП» с тоже хореическими «нэповскими» строчками Маяковского «Сама садик я садила, / Сама буду поливать» (с. 366), автор книги не учел, что это была пародия на конструктивистов, в конце 1920-хгг. рассорившихся с Маяковским (см.: Кацис Л.Ф. Владимир Маяковский. Поэт в интеллектуальном контексте эпохи. 2-е изд., доп. М., 2004. С. 277–300). Строчка Ходасевича «Д’ на крылечке бы стоять» с усечением союза — прием И. Сельвинского. А Ходасевич не переносил никаких левых поэтов — ни собственно лефовцев, ни конструктивистов.
Не ограничиваясь творчеством предшественников своего героя, Федотов заглядывает в позднейшие времена. Предполагая, что его последний сонет «Нет, не шотландской королевой...» (1937) вдохновлен статуей Марии Стюарт в парижском Люксембургском саду, ученый напоминает, что она потом вдохновила «Иосифа Бродского на создание своего сонетного цикла „Двадцать сонетов для Марии Стюарт“» (с. 331).
При ясности изложения в книге все же темными для читателя остаются слова о задуманной в 1917 г. исторической повести в гекзаметрах, один из набросков которой «отчетливо перекликается с „цветовыми описаниями“ в стихотворении Державина „Евгению. Жизнь Званская“ <...>. Восстановить хронологию, и довольно-таки точно, помогает упоминание о „столетнем Димитрии“, „который / Шведа под Нарвою бил“» (с. 17). Какой такой древний Димитрий и когда бил шведа? Католический обряд похорон якобы порождает у католика Ходасевича «остраненное видение незнакомого ритуального действа, свойственное носителю православного сознания <...>» (с. 360). Амур и Гименей названы, «в сущности, парными божествами, которым самой судьбой уготовано помогать друг другу» (с. 397–398), хотя Федотов сам напоминал о стихотворной сказке юного Пушкина «Амур и Гименей», где эти божества противопоставляются (с. 214–215); у Ходасевича есть и пушкиноведческая статья «Амур и Гименей» с таким противопоставлением. В конце книги сообщается, что Набоков «назвал его прямым наследником Пушкина по Тютчевской линии» (с. 398). Назвать-то назвал, только от Пушкина ни прямая, ни кривая «тютчевская линия» не отходила.
На с. 372 говорится о «семи» стихотворениях, в которых перекрестные катрены сочетаются с охватными, но перечислены восемь. Сына Горького звали не Алексей Максимович (с. 356), как писателя, а Максим. В стихотворении «Соррентинские фотографии» «золотокрылый ангел» — не «венчающий Александрийскую колонну» (с. 363), у которого крылья не позолочены, а венчающий шпиль собора упоминаемой далее Петропавловской крепости. В «латинской максиме: „Sic transit glories mundi!“» (с. 369) «Gloria» должна быть в единственном числе.
Впрочем, в весьма содержательной книге большого формата недосмотры не очень заметны.
С.И. Кормилов
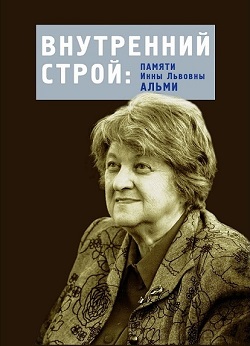
Внутренний строй: памяти Инны Львовны Альми / Ред.-сост. П.С. Глушаков, С.А. Мартьянова.
Владимир: Транзит-ИКС, 2018. — 358 с. — 500 экз.
Содержание: Глушаков П., Мартьянова С. От составителей; Мартьянова С. «Воспитана русской литературой». Воспоминания, отклики, письма: Е. Алексеенко, Н. Ашимбаева, М. Гельфонд, М. Жиркова, Н. Лобкова, Ю. Манн, И. Надь, П. Нерлер, О. Ручко, Д. Струкова, В. Сузи, М. Шарапова, А. Хайду, Д. Хайдушка. Рецензии, отклики: Роднянская И. Инна Львовна Альми: встреча посредством книг; Юхнова И. О книге Инны Львовны Альми «Внутренний строй литературного произведения»; Научные статьи, эссе и публицистические тексты: Алавердян К. Психологическая канва сюжетной линии. «Константин и Николай Левины» в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина»; Большухин Л., Александрова М. «Сознание, выпавшее из хора»: лирический герой раннего Маяковского в поисках «оцельнения» мира; Альтшуллер М. «Да здравствует царь Дмитрий Иванович» («Мнение народное» в «Борисе Годунове»); Асоян А. «Петербургский текст» Достоевского как субстрат «Европейской ночи» В.Л. Ходасевича; Гельфонд М. «Поздравляю вас с будущим...»: образ будущего в поздней лирике Боратынского; Глушаков П. Василий Шукшин о пути русской литературы; Кибальник С. Еще раз на тему «Достоевский и Тургенев» (на материале романа «Игрок»); Кормилов С. Изображение «нижних чинов» на Кавказской войне в творчестве М.Ю. Лермонтова; Костин Е. Толстой и эпоха Просвещения в России; Красильников Р. Тема войны в творчестве Л.Н. Андреева; Кулагин А. «Во Владимир перееду...». Об одном стихотворении А. Межирова; Марков Александр. Изгнание Адама в современной русской поэзии; Нерлер П. Полотно Ухеиро, или Испытание любовью. Заметки на полях романа Отара Чиладзе «Шел по дороге человек...»; Иосилевич Н. Особенности выражения эго-категории в прозе; Падерина Е. О «мертворожденном» жанре русского романтизма; Ростовцева И. Лермонтовский элемент; Сараскина Л. «Мир погибнет, если я остановлюсь». Современный комментарий (Л. Толстой и А. Солженицын); Сузи В. О связи поэтики Достоевского и патристики: христианская экзистенция и антропология (к теме апокатастасиса); Тихомиров Б. Отражения «Истории тринадцати» Оноре де Бальзака в творческой работе Достоевского; Урнов Д. Борьба за породу. Судьба Я.И. Бутовича (1881–1937); Чудакова М. Когда и кто рассказывает нашим детям о российском ХХ веке?; Библиография И.Л. Альми. Приложение: Альми-энциклопедия: шуточный текст.

Bozovic M.
Nabokov’s Canon: From Onegin to Ada
Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 2016. — 230 p.
«Термин „эмигрантский писатель“ отзывает слегка тавтологией. Всякий истинный сочинитель эмигрирует в свое искусство и пребывает в нем» (Набоков В.В. Воззвание о помощи. Определения / Публ. и примеч. А. Бабикова // Звезда. 2013. № 9. С. 119) — утверждал В. Набоков в докладе «Определения» (1940) в самом начале своего американского периода. Действительно, Набоков мог со всей основательностью ставить под сомнение это определение, поскольку был принципиально не укоренен в какой-либо одной культуре, литературной традиции, языке: пересечение границ, прежде всего конвенциональных границ искусства, для него — неотъемлемая потребность и безусловная черта всякого истинного творчества. Поздний Набоков, начиная с «Бледного огня» (1962), в непомерном для рядового сознания комментарии к переведенному «Евгению Онегину» (1964) и, в особенности, в романе «Ада, или Радости страсти» (1969) дразнит читателя и исследователя предельной аллюзивной усложненностью, что закрепляет за ним статус герметичного писателя.
Оригинальная и во многом новаторская книга Мариеты Божович «Канон Набокова: от „Онегина“ к „Аде“», выросшая из ее докторской диссертации, защищенной в 2011 г., предлагает увидеть два, вероятно, самых вызывающих текста писателя не как «потакающую себе бесполезность» (с. 4), а как этапы построения Набоковым транснационального канона, идущего вразрез с доминантным в 1960-е гг. англо-американским модернистским каноном, поддерживаемым «новой критикой». По мнению Божович, Набоков предпринимает попытку переписать двухсотлетнюю историю литературы: новый канон будет основываться на взаимопроникновении английской, французской и русской традиций. В комментариях к «Евгению Онегину», убеждена исследовательница, Набоков утвердил триаду предшественников транснационального модернизма в лице Пушкина, Байрона и Шатобриана. В свою очередь «Ада» вводит в канон самого Набокова, наряду с Прустом и Джойсом, а также ретроспективно устанавливает еще одну промежуточную триаду в лице Флобера, Диккенса и Толстого. Важно отметить, что на карте этой «мировой республики литературы» русской традиции отводится центральное место. Знаменитая мысль Борхеса, разделяемая с Элиотом, что «каждый писатель сам создает своих предшественников. Его творчество переворачивает наши представления не только о будущем, но и о прошлом» (Борхес Х.Л. Кафка и его предшественники / Пер. с исп. Б. Дубина // Борхес Х.Л. Собр. соч.: В 4 т. СПб., 2011. Т. 2. С. 423), — воплощена в творческой личности Набокова, и монография Божович, в которой это высказывание Борхеса цитируется (с. 53, 131), в каком-то смысле является развернутым исследованием изобретения традиции. «Аду», транснациональный magnum opusписателя, необходимо рассматривать, неустанно подчеркивает Божович, не как аутентичное «завершение плеяды модернистских романов, но как предвестник зарождающихся форм» (с. 130), как «роман о модернизме, подчеркивающем в силу этого дистанцию между автором и его литературными предшественниками» (с. 158). Однако заметить это и тем самым сломать определенную инерцию в восприятии «Ады» можно только с позиции XXI в., когда транснациональность писателя стала естественной для его «наследников», среди которых Божович называет А. Нафиси, О. Памука, Дж.М. Кутзее, В.Г. Зебальда и др.
Методологически книга Божович располагается на стыке литературоведения и смежных гуманитарных наук: детальному анализу художественных произведений сопутствует социологическая рефлексия о причинах, стратегиях и результатах предпринятой Набоковым попытки переписать литературную историю, что проявляется, в частности, в исследовании стилизаций и пародий, характерных для творчества писателя, в фокусе как формалистской теории пародии, так и социологических концепций П. Бурдьё, П. Казановы и др.
Композиция исследования Божович выстраивает маршрут от «Евгения Онегина», рассмотренного в аспекте беспокойства по поводу культурной отсталости, к «Аде», постулирующей и одновременно пародирующей модернистскую концепцию времени, находящую основание в философии Бергсона. Одной из объемлющих исследование тем является тема времени: современности, своевременности, вневременности и отсталости литературных явлений, литературной эволюции, а также темпоральных особенностей сознания и художественных возможностей, способных эти особенности зафиксировать.
Для анализа «Евгения Онегина» в первой главе основополагающим является положение, основанное на концепции Маршалла Бермана, согласно которому «чувство культурной отсталости, выраженное в подражательных и пародийных персонажах, может привести к более инновационным литературным результатам» (с. 10). Божович концентрируется на способности Пушкина обыгрывать разные традиции и лавировать между полюсами культурной отсталости и литературного новаторства при помощи пародии, стилизации и металитературных отступлений.
Главным образом умение Пушкина «делать новое из старого, усовершенствованное из устаревшего, центральное из маргинального» (с. 12) интересует, считает Божович, Набокова. Во второй главе исследования рассматривается, как и зачем писатель старательно воссоздает в комментариях к пушкинскому роману в стихах европейский литературный фон. Набоков демонстрирует, что литературу меняет сама литература и что Пушкина можно понять, внимательно «прослеживая, что и как Пушкин заимствовал и как остроумно он крал, адаптировал и улучшал» (с. 69) литературные явления. Фигура писателя как вора, активно используемая исследовательницей, стала, как известно, одной из классических для литературы модернизма, в русской традиции вполне заявив себя в «Трудах и днях Свистонова» К. Вагинова. В комментариях Набокова, считает Божович, центральное место занимают три фигуры: Пушкина, Байрона и Шатобриана (последний упоминается писателем даже тогда, когда уместнее было бы сослаться на другого современника); эта настойчивость, по ее мнению, формирует первую триаду канона, по отношению к которой Набоков в «Аде» заявит себя прямым продолжателем, давая реминисценции на различные пушкинские произведения и вводя в текст романа устойчивые отсылки (особенно связанные с инцестуальной темой) к Байрону и Шатобриану.
В третьей главе анализируется сложное переплетение русской и иноязычных традиций в романе Набокова «Ада», по отношению к которому комментарии к «Евгению Онегину» служат своего рода преамбулой. «Ада» убедительно демонстрирует, что между русской и зарубежными литературами нет пропасти. В подтверждение этого синтезированные в романе традиции Пруста и Джойса, рассмотренные в четвертой главе, убедительно включаются в генеалогию русского романа: «Набоков использует „искусство памяти“ Пруста, чтобы воскресить культурное прошлое, и технику переключения пародических стилей Джойса, чтобы показать сцену так, как она могла быть написана Пушкиным, Шатобрианом, Байроном, Диккенсом, Флобером, Толстым — и самими Прустом и Джойсом. <...> Набоков читает Джойса и Пруста, чтобы быть в той же мере духовным наследником Пушкина и Толстого, как и франко- и англоязычных писателей. Юмор, легкость и быстрота Пушкина и его страсть к пародированию находят полное выражение в приемном ирландском внуке; прустовское визуальное воображение и глубокие отношения с памятью напоминают описательную точность и темпоральную сложность величайших русских классиков» (с. 128).
Пятая глава посвящена трактату Вана Вина «Ткань времени» и прояснению бергсонианских влияний на концепцию времени в «Аде». Множество ценных замечаний, казалось бы, сближают позиции Вана Вина, Бергсона и Набокова, однако в трактовке исследовательницы Бергсон здесь только знак модернистской реальности и пародируется наравне с остальными. В наибольшей степени бергсонианским в «Аде» Божович считает эксперимент с самóй литературной традицией. «В то время как Ван пытается обрести смысл своей жизни через аккумуляцию личных воспоминаний, Набоков компилирует воспоминания литературы. Аллюзии „Ады“ в таком прочтении являются воспоминаниями самой художественной прозы: роман формирует сны о собственном прошлом» (с. 157).
Посвятив бóльшую часть книги исследованию того, как складывался набоковский канон, Божович приходит к парадоксальному заключению, что сама гипертрофированная аллюзивность Набокова и его стремление к интермедиальному языку образов делают этот проект в какой-то степени невозможным: «...в тот самый момент, когда представляется, что канон Набокова успешно растет, он рушится, чтобы включить в себя все, что может быть увидено, вспомнено или представлено, рушась как иллюзорная категория, которая не может содержать вечно расширяющийся список произведений культуры» (с. 164). Именно в таком виде этот подрывающий сам себя канон оказывается достоянием «детей Набокова», как их называет Божович, транснациональных авторов последующих поколений.
К сожалению, в книге практически отсутствует анализ того, на каких основаниях Памука, Кутзее или Зебальда можно считать наследниками транснационального канона Набокова. Это несколько раз постулируется, всегда в решающих и сильных местах книги (введении и заключении), однако так и остается дразнящим и не до конца проясненным сопоставлением. Не до конца ясно также, с каким конкретно «доминирующим литературным каноном» собирается полемизировать Набоков. Указание на Т.С. Элиота, «новую критику» и университетскую культуру дают общий ориентир, однако в книге не хватает конкретных примеров того, как в современной Набокову литературной действительности какой-либо из установленных им «предшественников» конкурировал бы с «предшественниками» англо-американского канона. Напрашивается вопрос: а точно ли современники или последующие читатели Набокова могли прочитывать комментарии к «Евгению Онегину» и «Аду» как этапы формирования нового канона и можем ли мы вынести за скобки книги Божович ее предположения относительно «состава» этого канона? Набоков, несомненно, открывал западному читателю русскую литературу и определял во многом его к ней отношение, старательно иерархизируя «литературное поле». Однако можно ли найти подтверждение тому, что упомянутые в книге Божович три триады транснационального модернизма каким-то образом существовали в актуальном литературном пространстве второй половины XX в.? Или это лишь достояние «Ады», «которая заражает наш мир Антитеррой в попытке перевести и присоединить русский роман к гибридному, но в преобладающей степени английскому канону» (с. 160)? Недостаточно разработано декларируемое в книге различие между концепцией времени Вана Вина и самого Набокова, нет строгих оснований считать Вана (в четвертой части романа) «пародией на Бергсона и модернистскую восприимчивость» (с. 158). Но для различения позиций набоковского героя и самого автора необходимо было бы, вероятно, детально исследовать тему времени в творчестве Набокова, что явно вышло бы за границы книги.
Эти встречные вопросы и соображения появились благодаря, а не вопреки оригинальной концепции исследования. Книга Божович оснащена богатым научным аппаратом, успешно сочетает разные методологии, ясно написана. Убедительно продемонстрирована в книге необходимость рассмотреть набоковские тексты в свете теории канона и медиальных исследований. Поскольку Божович стремится пересмотреть генеалогию романа второй половины XX в. и перекинуть мостик от Набокова к новым сочинителям, пережившим эмиграцию в жизни и «эмигрирующим» в свое искусство, ее книга может быть интересна не только специалистам по Набокову, но и всем, кого волнует судьба современного романа. Симптоматично для исследовательского маршрута автора, что новая книга Божович «Avant-Garde Post- : Radical Poetics After the Soviet Union», над которой она работает в данный момент, посвящена уже современной русской литературе.
Виктор Димитриев
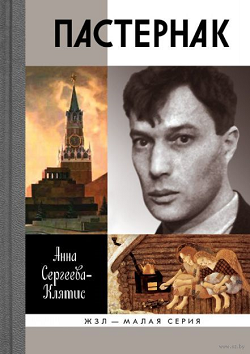
Сергеева-Клятис А.
Пастернак
М.: Молодая гвардия, 2015. — 365 с. — 4000 экз. — (ЖЗЛ. Малая серия. Вып. 82).
Книга А.Ю. Сергеевой-Клятис «Пастернак» заслуживает пристального внимания. Автор прослеживает жизнь поэта не по хронологическому, а по тематическому принципу, составив книгу из четырех глав: «Пастернак и Пастернаки», «Пастернак и женщины», «Пастернак и другие», «Пастернак и власть». Традиционной строгой биографической последовательности биограф предпочитает полноту освещения узкой темы. Из многообразия аспектов жизни Пастернака А.Ю. Сергеева-Клятис выбрала наиболее связанные с бытом, с жизнью внешней: родовые связи, женщины, друзья и враги и, наконец, власти. То есть окружение, в котором жил поэт, давление среды (положительное и отрицательное), которое он испытывал на протяжении всей жизни.
Этот вынужденно малый круг, отобранный для описания, дает возможность биографу подробно прорисовать наиболее сложные эпизоды пастернаковской биографии. А.Ю. Сергеева-Клятис анализирует, например, длительную размолвку с отцом 1910-х гг., возникшую в связи с отказом Пастернака вначале от музыки, а потом и от философии: «...с течением времени отец не становился мягче — в отношении Бориса он неизменно проявлял высокую требовательность. <...> Борис решился на объяснение с отцом, которое долгое время откладывалось» (с. 54). И далее на четырех страницах дается анализ отношений, причем это ни в коем случае не догадки биографа и не «психологические зарисовки» (что нередко мы встречаем в биографических сочинениях). А.Ю. Сергеева-Клятис предлагает читателю объяснение поступков поэта, сделанное самим поэтом. В самом деле — вспомним количество писем, написанных Пастернаком отцу, вспомним, какие это большие и содержательные письма, как стараются в этой семье понять внутреннюю жизнь близких и объяснить им свою... Поэт открывает отцу в письмах свою внутреннюю жизнь, объясняет свои побуждения и поступки. Поскольку речь идет о сложной, напряженной и очень насыщенной духовной жизни, стиль писем непрост. Биограф дает читателю выжимку, квинтэссенцию сложнейших духовных переживаний, отразившихся в этом письменном разговоре с отцом. И комментирует суть высказываний, их причины и необходимость: «Таким образом, письмо становится не обвинительным актом отцу и не декларацией собственной независимости, а просьбой близкого по духу человека быть осторожнее в тех, казалось бы, естественных требованиях, которые предъявлял Борису отец на протяжении всей их совместной предшествующей жизни» (с. 56). О сложных перипетиях в душе и биографии художника автор книги рассказывает, таким образом, со всей возможной тонкостью.
Биограф отказывается судить (осуждать) поэта и в трагической ситуации невстречи с родителями во время поездки на Международный конгресс писателей в защиту культуры и мира. В данном случае она обращается к стихам поэта и на основе выраженных в них чувств констатирует: «...чаша страданий из-за вечно продолжающейся, безнадежной разлуки с родителями была испита самим Пастернаком до дна» (с. 66).
В каждой из четырех составляющих книгу главок мы проходим отчасти повторяющийся временной путь. В главке «Пастернак и женщины» последовательно рассказывается о чувствах поэта к Иде Высоцкой, Надежде Синяковой, Елене Виноград, а также о его двух браках и любви к Ольге Ивинской. Биограф и здесь отнюдь не ограничивается передачей кочующих из одной биографии в другую известных фактов. Большим достоинством книги является попытка автора проникнуть в суть психологии небезразличных Пастернаку женщин, понять их поступки и слова.
Изучение писем и стихов Пастернака, прекрасное знание воспоминаний о поэте его друзей и близких, архивные данные о тех, с кем свела его судьба, дают основу для того, чтобы глубже проникнуть в личность не только поэта, но и его визави. Попутно автор книги делает замечания (иногда они почерпнуты из других исследований, иногда представляют результат собственного прочтения) о стихотворениях, посвященных той или иной женщине. Так, нам показалось существенным наблюдение, что из книги «Поверх барьеров» в переработке конца двадцатых убираются именно те тексты, которые несут явный отпечаток личности Н. Синяковой. Интересно сопоставление «Второй баллады» (в которой отражено возникающее чувство к Зинаиде Нейгауз) с «Грозой моментальной навек», обращенной к Елене Виноград. Тонко определена тема стихотворения «Годами когда-нибудь в зале концертной...»: отказ героя от выбора между двумя женщинами (с. 152). Заставляет задуматься и параллель с «Дневником Печорина» в этом стихотворении, на которую указывает биограф. С некоторыми замечаниями согласиться трудно: например, вряд ли есть основания сближать образ Синяковой с образом «колдуньи» из стихотворения Н.С. Гумилева «Из города Киева, из логова змиева...» лишь на том основании, что дача Синяковых находилась в местности, принадлежащей к Змиевскому уезду.
Вообще, описывая сложную ситуацию ухода Пастернака от первой жены, — ситуацию, в которой он обвинял только себя, — биограф, по ее собственным словам, следует цветаевской формуле «тебя нельзя судить как человека» (с. 163). Причина не в неподсудности гения, а в том, что поэт «осмысливал свои отношения с женщинами <...> в категориях не бытовых, но бытийственных» (с. 165). А.Ю. Сергеева-Клятис вставляет в письмо Пастернака свои «филистерские», по ее собственному замечанию, возражения, она спорит с поэтом с бытовой, «филистерской», точки зрения — и признает свое поражение. «Необходимо подняться над обыденностью и посмотреть шире, выше», — поясняет она (с. 165). Несомненная любовь к поэту и глубокое понимание его творчества сочетаются в книге с объективностью исследователя-биографа.
В главе «Пастернак и другие» другие — это поэты, литераторы, чьи творческие пути в ту или иную пору пересекались с путями Пастернака. В самом начале раздела автор предупреждает, что речь пойдет не о дружбе, а об от-ношениях более сложных. В этой главе подробно рассмотрены отношения с Маяковским, Мандельштамом, Цветаевой и Ходасевичем.
Почему выбраны эти четверо? Думается, что по разным причинам. Маяковский произвел чрезвычайно сильное впечатление на Пастернака при первом знакомстве, он чувствовал большую близость собственной ранней книги «Близнец в тучах» к его стихам; в дальнейшем пути разошлись. При всех трагических перипетиях в их взаимоотношениях «самоубийство Маяковского страшным образом ударило по Пастернаку» (с. 214). Написанное Пастернаком показывает, что в эти дни он вновь ощутил свою близость к погибшему поэту.
Мандельштама Пастернак долгое время не понимал (в то время как Мандельштам его стихами восхищался). Личное общение поэтов не складывалось из-за разности характеров. Заметим, что биограф значительное внимание уделяет разному отношению поэтов к переводческой деятельности. Это обусловлено, конечно, большой писательской склокой вокруг «дела Горнфельда», весьма способствовавшей в конечном счете гибели Мандельштама. Различие мировоззренческих позиций двух гениев действительно проявилось в этом деле довольно ярко. Нам представляется, что позиция Мандельштама обусловлена не столько представлениями об этике, сколько характером поэта: некоторых вещей, связанных с бытом, он просто не замечал. В отличие от него Пастернак, находясь на столь же высоких «парнасских вершинах», не упускал из вида и простую человеческую этику, старался оставлять ее в зоне своего внимания... В различном отношении поэтов к сложной ситуации проявилась разница характеров. Вместе с тем А.Ю. Сергеева-Клятис подчеркивает высокую оценку Мандельштамом ответов Пастернака на вопросы Сталина в знаменитом телефонном разговоре (сейчас иногда эти ответы ставятся в укор Пастернаку), подчеркивает и смелые попытки Пастернака облегчить судьбу Мандельштама в дальнейшем. Особенно ценно упоминание о роли судьбы Мандельштама в изменении взглядов Пастернака на жизнь, произошедшем после 1946 г., а следовательно, о влиянии ее на роман «Доктор Живаго».
При рассмотрении отношений Пастернака и Цветаевой А.Ю. Сергеева-Клятис находит возможность писать нетривиально. Ценно уже то, что Цветаева ставится в ряд «коллег», а не «женщин». Надо сказать, что пастернаковед активно защищает Пастернака — от Цветаевой, как известно, во многом его упрекавшей.
А вот Ходасевич оказался среди особо важных для Пастернака поэтов не столь ожидаемо. Их дружеская близость не была такой очевидной и длительной, как с Маяковским или Цветаевой. Известно отрицательное отношение Ходасевича к стихам Пастернака: ему не нравилась их непонятность, «темнота». Известно также, что Пастернака это серьезно огорчало. За всем этим А.Ю. Сергеева-Клятис сумела разглядеть внутреннюю близость. Представляется ценным, что биографа Пастернака Ходасевич интересует и сам по себе. В этом разделе высказаны интересные мысли о причинах неполной реализованности Ходасевича-поэта. Замечательно и то, что на этот раз А.Ю. Сергеева-Клятис защищает от Цветаевой уже Ходасевича.
И наконец, последняя глава в книге — «Пастернак и власть». «На вопрос, как власть относилась к Пастернаку, можно встретить прямо противоположные ответы», — начинает этот очерк автор. И предупреждает, что ее будет интересовать едва ли не более, «как Пастернак относился к власти» (с. 277). В дальнейшем этот вопрос решается преимущественно путем анализа стихотворений и поэм Пастернака, обращения к его письмам, к воспоминаниям и свидетельствам современников. И творчество писателя, и рассказывающие о его поступках воспоминания и письма убедительно свидетельствуют о его неизменно честном и мужественном поведении в отношениях с властью. Порой заблуждаясь, но всегда, в любых обстоятельствах сохраняя позицию внутренней честности, он шел через эти тяжелейшие испытания вместе с народом — там, где народ, «к несчастью, был»... В конце жизни Пастернак сознательно выбрал позицию отщепенца, понимая это решение как единственно возможное в той ситуации. В книге А.Ю. Сергеевой-Клятис прослеживается тернистый путь поэта в отношениях с властью и в тридцатые годы, и в сороковые, и в пятидесятые — до самой смерти. Которой, как известно, «не будет».
Л.Л. Горелик

Глушаков П.С.
Шукшин и другие: статьи, материалы, комментарии
СПб.: Росток, 2018. — 320 с. — 500 экз.
Пафос книги П.С. Глушакова, посвященной творчеству Василия Шукшина, заключается в том, что даже в совершенно новых исторических и культурных условиях, в каких находится сегодня страна, этот писатель должен считаться классиком отечественной литературы. И одну из причин этого автор видит в том, что Шукшин в своих произведениях дал голос «огромному народному материку, который оставался в русской интеллектуальной культуре неизведанным и пугающе тайным».
Глушаков рассматривает прозу Шукшина в тесной связи как с «высокими» образцами литературы, с которыми в его произведениях ведется живой и глубокий диалог, так и с формами «низкими». К числу последних относится, например, фольклор, который повлиял на Шукшина-прозаика, да и сам языковой материал он черпал, как подчеркивает Глушаков, из родников живой речи. В центре интересов автора, помимо разнообразных стилистических регистров и многоплановости прозы Шукшина, находятся ее интертекстуальные аспекты. Значительное число приводимых автором примеров включает в себя как случаи чистой интертекстуальности (по определению Женетта; см.: Genette G. Palimpsestes. P., 1982. С. 7–16), то есть открытого цитирования, так и случаи скрытых или более очевидных типов паратекстуальных и гипертекстуальных проявлений: аллюзии, отголоски, реминисценции, вплоть до совпадений, приписываемых «генетической памяти литературы» (см.: Бочаров С. Генетическая память литературы. М., 2012). Глушаков выявляет у Шукшина многочисленные аналогии с темами и мотивами русской литературной традиции — от Державина до авангарда начала ХХ в. и позднее.
И именно в этой оптике следует рассматривать название книги. Цель автора состояла в том, чтобы, исследуя и комментируя тексты Шукшина, иногда малоизвестные (стихи, публицистика, черновые записи, архивные материалы), выявлять диалог с произведениями его современников и предшественников. Речь идет о диалоге, который позволяет проникнуть в иные точки зрения. И название книги подчеркивает именно инаковость Шукшина и его персонажей, чья непредсказуемость может даже пугать.
В книге приводится большое количество новых материалов из личного архива Ирины Александровны Жигалко, ассистента М.И. Ромма на режиссерском факультете ВГИКа. Речь идет о рассказах, сохранившихся в студенческих тетрадях, вероятно относящихся к 1957–1958 гг., изучение которых чрезвычай-
но важно для понимания того, как формировалось мировоззрение Шукшина. Глушаков публикует эти ранее неизвестные тексты, снабдив их обширным научным аппаратом, с особым вниманием относясь к позже удаленным вариантам, к функциям авторской пунктуации и ее роли в своеобразной эмоционально-ритмической организация текста, а также к особенностям стилистики литературных опытов будущего режиссера. К этому следует добавить разбор композиционных мотивов и анализ отношения Шукшина к произведениям других писателей и к критике. Уже эти первые рассказы говорят об интересе автора к жизни «живого» человека. Позже в статье «Нравственность есть Правда» Шукшин заявлял, что персонажи не должны быть обязательно «нравственными», поскольку рискуют по этой причине оказаться «мертвыми». Его реализм, в противоположность реализму социалистическому, не опирается на теоретические постулаты, но ищет возможность показать героя таким, какой он есть в жизни.
В тех же первых своих рассказах писатель использует кинематографический прием «панорамирования», что приводит к объединению массы людей в единый персонаж («Глаза»), или же прием максимального приближения камеры, чтобы сосредоточить взгляд на самом для него важном, как в этюде «Человек», где простой врач, проявляя героизм не в какой-то чрезвычайной ситуации, а в повседневной работе, становится таким образом символом истинной человечности.
То внутреннее, на первый взгляд необъяснимое волнение, которое терзает шукшинского героя, провоцирует в нем некий «сдвиг» и часто делает его малопонятным не только окружающим, но и себе самому («Забуксовал», «Думы»), — один из главных элементов знаменитого шукшинского «чудика». Чудаковатость многих персонажей Шукшина — одна из центральных тем исследования Глушакова — это результат «трещины», провоцирующей раздвоенность, что, очевидно, следует искать в жизненном опыте писателя и режиссера, который трагически переживал метание между миром «земли» (деревни) и миром города, в то время как ни один из этих миров уже не мог отвечать его полуутопическим чаяниям. Но характер «чудика», однако, формировался mutatis mutandis из различных предшествующих литературных типов, таких, как герой рассказа Горького «Озорник», по которому, кстати, Шукшин сделал экспликацию во ВГИКе, Хлестаков, князь Мышкин и даже Григорий Мелехов («Тихий Дон», гл. XVIII, часть IV). Последнему близко, например, аналогичное, мотивированное любовью к родному дому и близким людям поведение Степки из одноименного рассказа. Наибольшее количество нитей, по мнению Глушакова, связывает Шукшина именно с Шолоховым, близким ему по идеологическим и эстетическим позициям. Что же касается интертекстуальных связей, объединяющих их произведения, то особо акцентирует Глушаков роль снов, которые отражают лучшую часть характеров персонажей и компенсируют отсутствие внутреннего монолога.
Поэзии Шукшина посвящена отдельная глава книги. Глушаков возвращает из забвения поэтическую составляющую творчества Шукшина, мало изученную в прошлом из-за многовариантности и слабой доступности и считающуюся критикой «периферийной» относительно основных его произведений. Исследуя его поэтические тексты, Глушаков находит некоторые их источники как в «высокой поэзии», так и в народных песнях. В частности, автор замечает, как, через интертекстуальный диалог, фольклорно-мифологический «багаж» Шукшина сочетается с русской фольклорной традицией и с традицией поэтического авангарда.
Труд Глушакова направлен на выяснение и реконструкцию сплетения культурных связей и отсылок, которые часто являются основой сочинений Шукшина. Через подробный критический анализ и сопоставление с произведениями, которые он хорошо знал или мог бы знать (например, Кафки, с которым у Шукшина была общая тема «драмы гуманизма во враждебном для человека окружении»), исследователь выявляет целую сеть диалогов с русскими авторами XIX в., такими как Пушкин, Гоголь, Чехов и др., с поэтами-символистами (в частности, с поэтическим циклом К.Д. Бальмонта «Славянское древо»), с Хлебниковым (общим, среди прочего, был у обоих «разинский текст»), с современными ему авторами. Отмечаются также некоторые «странные сближения» с Андреем Тарковским, хотя кинематографическая концепция последнего была совершенно отличной от шукшинской.
Книга П.С. Глушакова представляет интерес как для исследователей творчества Шукшина, так и для тех, кто изучает сам процесс литературного творчества.
Джулия Джиганте
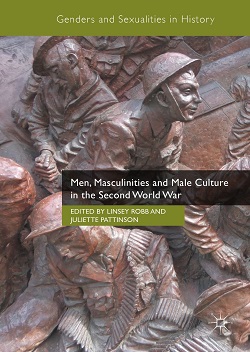
Men, Masculinities and Male Culture in the Second World War / Eds. L. Robb, J. Pattinson.
L.: Palgrave Macmillan, 2018. — XXII, 218 p. — (Genders and Sexualities in History).
С конца 1980-х гг. в рамках гендерных исследований активно развивается компаративный анализ маскулинностей, включая сравнение разных стратегий мужского поведения в военной сфере. Однако часто такого рода проекты либо ограничиваются анализом локальных кейсов, либо переходят к слишком широким обобщениям. На этом фоне сборник «Мужчины, маскулинности и мужская культура во время Второй миро-
вой войны», составленный Линси Робб из Нортумбрийского университета и Джульетт Паттинсон из Кентского университета, представляет собой удачную попытку сделать подобные исследования максимально продуктивными, связав теоретические обобщения и работу с конкретными источниками — воспоминаниями, устными интервью, медиарепрезентациями и т.д. Как отмечают составители, сборник вырос из научного проекта «Оспаривая маскулинность?», включавшего в себя сбор и обработку устных воспоминаний мужчин — «тружеников тыла» Второй мировой войны в Великобритании. Его исходной установкой стал тезис о дисбалансе репрезентации «мужественности» в культурной памяти второй половины ХХ — начале ХХI в.: соотношение солдат и получивших бронь рабочих колебалось от 1 к 4 в 1939 г. до 1 к 2,5 в 1945 г., при этом в годы войны британская пропаганда всячески подчеркивала равенство их заслуг, но после окончания Второй мировой участники боевых действий полностью отодвинули резервистов на задний план в общественном сознании. Так, Артур Макайвор в своей статье «Реконструируя „настоящих мужчин“: работа и тела пролетариев в военное время» отмечает: «На вершине иерархии маскулинностей периода войны оказалась фигура героического солдата, тогда как получившие бронь на своей работе резервисты заняли подчиненное положение» (с. 139). Авторы сборника полагают, что проблематизация этого стереотипа не просто исправляет исторически сложившуюся (в прошлом) несправедливость, но и ограничивает продолжающуюся в настоящем работу гегемонной маскулинности через демонстрацию вариабельности мужских ролей в годы войны. Этому тезису подчинена и структура книги: в первой ее части («Героический солдат») рассматривается фронтовой опыт комбатантов, а вторая («Мужчины на внутреннем фронте») посвящена резервистам и их репрезентации в культурной памяти Великобритании.
Одной из наиболее удачных в первой части можно считать статью Джульетт Паттинсон «Фантазии „героических солдат“ и разочарование Джедборо». Автор анализирует столкновение романтических представлений о войне (популярного в Великобритании с конца XIX в. нарратива о герое-одиночке, получившем элитарную подготовку офицере-спецагенте) и реального фронтового опыта участников проекта «Джедборо». Последний предполагал подготовку диверсантов для высадки на территории Франции и Нидерландов летом 1944 г. с целью дезорганизации сил противника. Команды включали по три человека из лучших военных Франции, Великобритании и США. Материалом исследования стали восемь устных интервью с выжившими ветеранами, записи из Имперского военного музея в Лондоне, опубликованные и неопубликованные воспоминания и архивные источники. Героическая романтика, нарратив «избранных» и апелляция в ходе длительных тренировок к мужеству участников проекта «Джедборо» оказались, по воспоминаниям ветеранов, бессмысленными в контексте гетерогенности реальных задач, с которыми группы сталкивались после десантирования: они были вынуждены самостоятельно вырабатывать прагматические тактики выживания.
Эмма Ньюлэндс в статье «„Человек, лунатик или труп“: страх, ранения и смерть в британской армии в 1939–1945 гг.» рассматривает — также на материале источников личного происхождения — реакцию солдат и офицеров на ранения, смерть товарищей и ужасы войны, противопоставляя их весьма экспрессивные отклики нейтральному языку официальной экспертизы с ее тезисом о мужестве как подавлении эмоций. По меткому наблюдению автора, страх комбатантов принимает телесный характер: он часто вызывает боли в животе, потливость, головокружение и бессонницу, тогда как на сознательном уровне солдаты боятся в основном за лицо (особенно глаза) и гениталии (с. 51). Напрямую связывать страх слепоты с фрейдистским страхом кастрации, как это делает автор, вряд ли оправданно; статья скорее ставит важный вопрос о продуктивных способах анализа взаимосвязи сознательных и бессознатательных (аффективных) феноменов, чем успешно отвечает на него (в духе классического психоанализа).
Во второй части особенно любопытной представляется статья Криса Смита «Маскулинность, класс и гражданские в форме (Блетчли-парк)». Она посвящена одному из сюжетов, не укладывающихся в рамки бинарного противопоставления армейской службы и работы в тылу, — деятельности Центра правительственной связи Блетчли-парк, получившему известность благодаря расшифровке немецкого кода «Энигма». Посвященный этому сюжету фильм «Игра в имитацию» несправедливо противопоставляет гомосексуальность и гений А. Тьюринга нормативной маскулинности и «ординарности» его коллег, почти исключительно мужчин. На самом деле, как подчеркивает Смит, работа и успехи центра строились не столько на индивидуальных усилиях, сколько на слаженном взаимодействии множества подразделений, три четверти штата которых составляли женщины. При этом проблемы оплаты труда (в соответствии со званиями либо повременной), армейской дисциплины и ношения формы, принципов найма (выходцев из военной среды или городского среднего класса) создавали в Блетчли-парк основу для реальной конкуренции военной и гражданской моделей поведения, включая разные стратегии репрезентации маскулинности.
Многие авторы сборника стремятся перейти от работы с эмпирическим материалом к уровню теоретических обобщений. Но при этом возникает проблема нестыковки общих установок и, соответственно, выводов. С одной стороны, составители апеллируют к концепции известного теоретика гендерных исследований Рэйвина Коннелла, который выделяет следующие формы маскулинности: гегемонную (присущую элите и отражающую ее интересы), «соучаствующую» (которой отводится вспомогательная роль в иерархии, позволяющая извлекать определенные преимущества для большинства ее носителей), подчиненную (например, в квир-культуре) и, наконец, «маргинальные маскулинности» (с. 7). Однако работа с источниками показывает размытость и предельную ситуативность этой схемы. Служащие Блетчли-парка активно оспаривают условия службы в своих прагматических интересах; участники проекта «Джедборо», разочаровавшись в героическом нарративе, ищут более адекватную модель для выражения своего опыта и т.д. Как отмечает Корина Пинистон-Берд в заключительной статье сборника («Вспоминая невидимых мужчин: резервисты в камне и бронзе»), правильнее было бы говорить о сложной сети практик маскулинности, пересекающихся в моменты близкой опасности, активных действий и перемещений по воинской службе (с. 200). В этом смысле опирающаяся на социальный конструктивизм трактовка гендерных самоидентификаций не очень продуктивна. Как замечает Грэхам Доусон в своем предисловии, «маскулинности проживаются телом» (с. IX), хотя и формируются в воображении.
Сильная сторона рецензируемого сборника — интерес именно к борьбевокруг гендерных рамок, тактикам их воплощения, а также «выхолащивания» (emasculation). Огромную роль при этом часто играет не противопоставление «мужского» и «женского», а внутренние напряжения между разными стратегиями маскулинности, включая, например, противопоставление «ироничного и умеренного британского мужества» гипермаскулинности нацистов (с. 9). Вертикальная иерархия Коннелла несколько упрощает эту борьбу. Устная история, к которой систематически обращаются авторы сборника, позволяет более тонко выявить точки напряжения между разными стратегиями субъективации, в равной степени зависящими как от социальных рамок, так и от феноменологии жизненного опыта. Более того, сбор устных источников приобретает важное социальное измерение: по словам Доусона, «рассказы солдат Второй мировой войны позволяют пересмотреть воображаемые формы маскулинности, транслируемые от поколения к поколению и до сих пор влияющие на гендерные самоидентификации детей» (с. VII).
К сожалению, эти несомненные достоинства рецензируемого издания тесно связаны с его недостатками. Гендерные самоидентификации не могут быть единственным вектором анализа — они всегда неразрывно связаны с другими социальными и культурными установками. Макайвор, Паттинсон и Смит периодически затрагивают классовые различия и специфические особенности медиа, но практически не касаются национальных различий (например, тактик артикуляции фронтового опыта англичан, шотландцев и ирландцев). Военная антропология и исследование устойчивых во времени культурных нарративов XVII–XX вв. в духе Джорджа Мосса также могли бы скорректировать авторские выводы. Даже Джудит Батлер рассматривает воплощение (embodiment) как двусторонний процесс воспроизводства / трансформации социокультурных рамок, а не сводит его к интериоризации воображаемых маскулинностей. Кроме того, преобладание социального конструктивизма стирает различие между разными типами источников: письмами, дневниками, воспоминаниями и устными интервью, не позволяя рассмотреть их изменения в зависимости от времени, контекста и особенностей авторской речи.
Рассмотренный сборник может быть интересен как профессиональным историкам, так и широкой аудитории. Он включает в себя множество оригинальных сюжетов и предлагает достаточно продуктивную их интерпретацию. Впрочем, по его прочтении все же остается ощущение, что сторонникам гендерных исследований необходимо идти дальше, за рамки социально-конструктивистских установок, т.е. на поиск более оригинальных концептуальных подходов и новых союзников.
Федор Николаи

Документы по истории театра в книжных и архивных собраниях: Двенадцатые международные научные чтения «Театральная книга между прошлым и будущим» / Сост. А.А. Колганова.
М.: РГБИ; Три квадрата, 2017. — 368 с. — 500 экз.
Содержание: Гудкова В.В. Театральная секция ГАХН в документах. Лица и судьбы; Федоров М.Л. Театр и антропософия: материалы по истории театра 1920–1930-х гг. в коллекции Л.А. Новикова (ОР ИМЛИ РАН); Синельникова Т.А. История формирования архивного собрания Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки; Обухова-Зелиньская И.В. Театральное наследие Ю.П. Анненкова в государственных хранилищах и частных собраниях — проблемы изучения; Клочкова Ю.В., Сидоренко Л.Ю. Становление русского театра: «комедиант и публика лицом к лицу» (по мемуарам П.А. Каратыгина и С.П. Жихарева); Светаева М.Г. От документа к книге: публикация «Дневников» В.А. Теляковского; Зуйкова Е.А. Театральная и литературная жизнь Петровских линий в Москве 100 лет назад; Кацис Л.Ф. В. Жаботинский (Н. Вержбицкий), Андрей Белый, Лев Толстой и Элеонора Дузе: (забавный артефакт из газеты «Русь» за 1908 г., или Неизвестная теория театра, драмы и актера); Головчинер В.Е. Пьеса «Боккаччио» В. Масса и Н. Эрдмана в контексте времени; Дворянкина Е.В. Об одной пьесе Е.Л. Шварца; Мишуровская М.В. Вторая редакция пьесы М.А. Булгакова «Дни Турбиных» в архивах Москвы, Санкт-Петербурга и Риги; Бартеле Т.М. Переписка С. Бирман с актрисой Э. Берзиней; Тишунина Т.Б. К биографии народной артистки СССР Валерии Владимировны Барсовой (по материалам Государственного музея А.С. Пушкина); Кузьмина А.В. Лилиан Гиш в переписке с театральными деятелями России; Липачева М.В. Страницы книжной истории театральной Казани: опыт Национальной библиотеки Республики Татарстан; Титунова И.Б. Театральная библиография первой половины 2010-х гг.; Колганова А.А. Зафиксировать нетрадиционные виды мемуаров в библиотечных архивах; Федотов А.С. Общество драматических писателей против провинциальных театров: полемика 1870-х гг. об авторских правах драматургов; Ильин Б.В. Б.С. Глаголин в Вологде и Архангельске; Чанышева Д.Я. Надежда Слонова. Актриса, педагог, драматург (коллекция фотографий из фондов РГБИ); Баканова Л.Н. С.Д. Масловская — первая в России женщина — оперный режиссер: личный фонд Масловской в ЦГАЛИ; Щедрин В.А. Возвращение «Строителя»: Соломон Михоэлс как драматург: публикация рукописи пьесы «Строитель» (1919); Рейтблат А.И. Инскрипты на книгах о театре в фонде Российской государственной библиотеки искусств.