Журнальный клуб Интелрос » НЛО » №156, 2019
Плампер Я. История эмоций / Пер. с англ. К. Левинсона.
М.: Новое литературное обозрение, 2018. — 568 с. — 1500 экз.
Boddice R. The History of Emotions.
Manchester: Manchester University Press, 2018. — IX, 248 p.
Rosenwein B., Cristiani R. What is the History of Emotions?
Cambridge: Polity, 2018. — 163 p.
Крупнейший специалист по истории эмоций Барбара Розенвейн в своей недавней книге отмечает: «В последние двадцать пять лет европейская культура буквально одержима эмоциями. Писатели, философы, социологи, психологи и нейропсихологи размышляют об эмоциях, каждый в своем ключе. Историки не исключение»[1]. В 2018 г. вышло сразу несколько книг по истории эмоций, и еще несколько готовятся к изданию[2]. Насколько отличаются концептуальные подходы их авторов? Не являются ли эти многочисленные истории эмоций лишь симптомом новой моды в историописании? И каковы перспективы развития этого направления исследований?
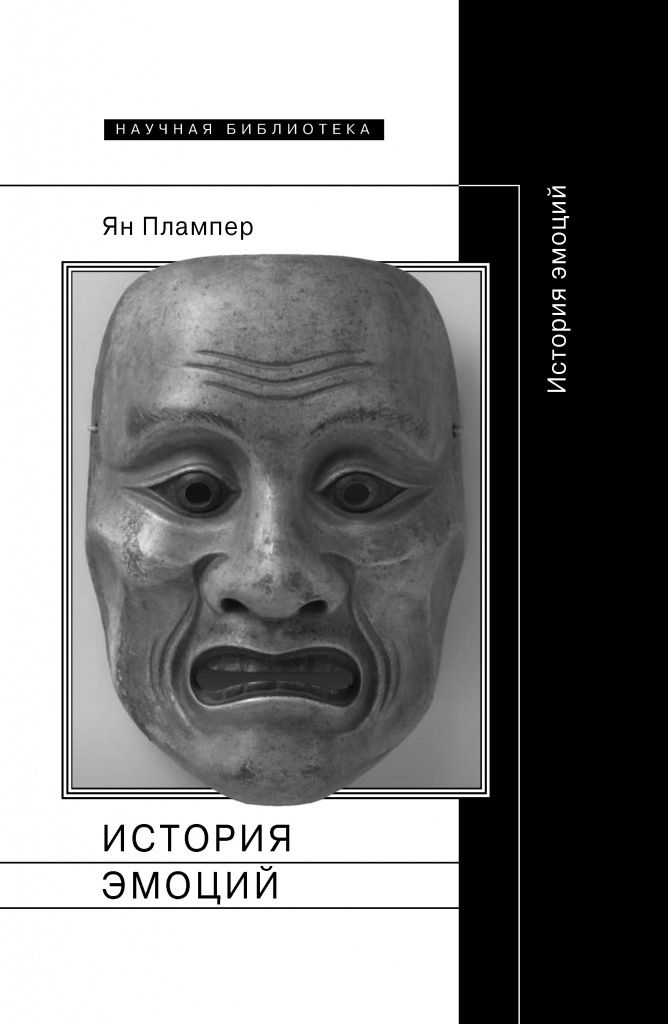
Идеальный вариант для первого знакомства с этим бурно развивающимся полем — вышедшая в русском переводе книга Яна Плампера «История и чувство: основы истории эмоций» (2012, англ. пер. 2015) — прекрасно написанная и в хорошем смысле междисциплинарная[3]. В центре внимания автора находится полемика между победившим в антропологии социальным конструктивизмом и универсализмом, связанным с ростом нейронаук. Как справедливо отмечает Плампер, популярность истории эмоций вызвана кризисом «постмодернизма» и выхолащиванием лингвистического поворота, на место которого претендуют «науки о жизни». Главная задача сторонников этого направления — преодоление оппозиции «природа vs. культура», играющей в гуманитарных исследованиях ключевую роль начиная с Просвещения и позволяющей конструировать разного рода коллективные идентичности. Разграничение человека и животного, человека и человекоподобной машины противопоставляет сообщество (своих) — Другим. Первостепенное значение имеет при этом способность разделять эмоции окружающих людей: «Моя способность сочувствовать людям — а также человекоподобным объектам — превращается в мерило того, насколько я вообще являюсь чело-
веком» (с. 46). Именно эмоции, понимаемые в широком смысле — как комплекс аффектов, ощущений, телесных габитусов, ценностных установок и рационально осознанных интересов, становятся сегодня метакатегорией, объединяющей разные фрагменты истории культуры и стратегии их репрезентации. Подобная позиция предполагает единство когнитивно-эмоционально-телесной сферы: телесные сигналы носят универсальный характер, но получают специфическое эмоциональное или культурное наименование лишь после процедуры оценки (приписывания значения).
Исследование Плампера начинается с обзора исторических вех направления, включая книгу Н. Элиаса «Цивилизационный процесс» (1939), статью Л. Февра «Чувствительность и история» (1941)[4] и полемику У. Редди и Б. Розенвейн (2000-е гг.)[5]. Во второй и третьей главах анализируются изменения в трактовке эмоций в антропологии и истории науки. При этом целью автора оказывается не только описаниеистории эмоций, но и проблематизация существующих сегодня телесных, эмоциональных и когнитивных практик. Для этого Плампер использует концепцию эмотива У. Редди, которая (по аналогии с концепцией перформатива Дж. Остина) подразумевает развертывание эмоции в процесссе ее выражения и преобразование реальности в результате подобного высказывания. Плампер подчеркивает важность политических импликаций такого анализа: исследование эмотивов предполагает критику аффективного использования политики «сострадательного консерватизма» и продолжает борьбу за гражданские ценности и идеалы Просвещения, утраченные поколением постмодернистов (с. 366).
Перспективы развития истории эмоций автор связывает с инициативами (пока весьма разрозненными) сторонников «критических нейронаук» — «рыхлой коалиции» гуманитариев и нейроисследователей, которые выходят за рамки оппозиции социального конструктивизма и физикалистского универсализма (с. 394). Со стороны нейронаук это, например, изучение нейропластичности, анализ функциональной специализации зон мозга, социальные нейронауки (исследования эмпатии). В гуманитарном знании наряду с концепцией Редди его больше всего интересуют исследования «эмоциональных практик» М. Шеер, которая рассматривает тела как исторический и культурный феномен[6].
Однако не вполне понятным остается ответ автора на принципиальный вопрос, обозначенный в книге, хотя и в несколько завуалированном виде: как совместить диахронизм истории эмоций и синхронизм антропологии, а также нейронаук? Популярность антропологии, оказавшейся с 1970—1980-х гг. в авангарде гуманитарных исследований во многом благодаря своему презентизму и редукции диахронического измерения исторического анализа (с. 187—188), принципиально не сочета-
ется с жесткой демаркацией прошлого и настоящего, свойственной классическому историзму. Антропологические исследования эмоций имеют дело с ощущениями и современными практиками выражения эмоций. Прошлое служит лишь поставщиком бесконечных примеров и диковинных отличий — фоном, на котором европейское настоящее продолжает доминировать и определять границы человеческой природы через проведение границ внутреннего и внешнего, своего и другого.
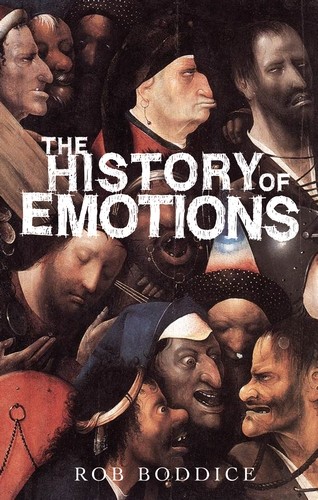
Роб Боддис в своей «Истории эмоций» также доказывает, что рост популярности этого направления исследований связан с изменением понимания человеческой природы или гуманности в современной европейской культуре: «Эмоции оказываются в самом центре нашего понимания того, что значит быть человеком, и, соответственно, в центре исторического интереса. Будучи далеко не иррациональными, эмоции составляют основу процесса смыслообразования в человеческой жизни. Они являются неотъемлемой частью когнитивных процессов, связывая социальные отношения, дискурсивные аргументы, а также ощущения удовольствия и неудовольствия, приятного и неприятного, правильного и неправильного» (с. 192). Автор также отмечает, что история тела и эмоций оттеснила постмодернистское увлечение языком 1990-х гг. и постструктуралистскую социальную критику, — все чаще складывается впечатление, что именно «страсти творят историю тем или иным способом» (с. 13).
Как и Плампер, Боддис рассматривает генеалогию истории эмоций, актуальные дискуссии вокруг ключевых понятий, а также перспективы сотрудничества с нейронауками. Эти перспективы он оценивает более оптимистично[7] и связывает с теорией практик: «Эмоции (или аффект) и их выражение не существуют по отдельности, но составляют единый процесс. Практики, включая телесные жесты, являются симптомами этого процесса. <…> Теория практик, развиваемая М. Шеер, рассматривает нашу физическую активность в мире — практики — как часть формирования опыта человеческого бытия» (с. 121). «Мы всегда имеем дело с двусторонним движением эмоций. <…> И это ключевой принцип нейроистории: культурные практики вызывают глубокие нейропсихологические последствия» (с. 160).
Кроме того, существенную роль он отводит эстетике как пространству взаимодействия опыта, эмоций и суждений вкуса. Отталкиваясь от собственных ощущений в берлинском Музее Холокоста, в главе «Пространства, места и объекты» Боддис рассматривает конструирование и влияние пространства на психоэмоциональное состояние людей и их идеалы: «Эстетика превращает проектирование здания в часть социальной практики. Она в прямом смысле отсылает не к идеалам красоты, но к ощущениям. <…> Историчность эмоционального знания материально вписана в ландшафт. Она окружает нас» (с. 172—173).
Наиболее оригинальным и продуктивным вектором анализа в книге Боддиса представляется взаимосвязь моральной экономии и эмпатии, которым посвящены последняя глава («Мораль») и Заключение. Эмпатию он считает секуляризованной наследницей христианского сострадания, соединившейся со стремлением к социальной эмансипации эпохи «модерности». Результатом такого синтеза стало «нарастание чувства несправедливости» и изобретение практик исправления этой несправедливости: «Политические и социальные преобразования, связанные с изменениями морали и эмоций, были вызваны ощущениемнесправедливости, когда принимающие решения [политики] не выражали интересы и чувства населения» (с. 189). Речь здесь идет не просто об эмоциях, но об их взаимосвязи с социальными интересами, ценностями и идеями. Чтобы описать характер этой взаимосвязи, Боддис использует понятие моральной экономии.
Как известно, этот термин получил распространение благодаря работам британского историка Э.П. Томпсона и антрополога Д. Скотта. Томпсон в статье «Моральная экономия английской бедноты в XVIII в.» (1971) обращается к функции обычая, который воспринимался британскими бедняками XVIII в. совершенно иначе, чем сегодня. Тогда для членов общины важны были не культурные или национальные традиции (чаще всего «изобретенные» совсем недавно, как показал Э. Хобсбаум), но актуальное подтверждение своих прав и экономических гарантий от дальнейшего обнищания. Обычай вполне функционален. Его не стоит идеализировать, как это происходило в романтической культуре, принадлежащей другому (правящему) классу[8]. Томпсон подчеркивает важность устной и практической передачи обычая, противопоставляя его доминированию теории в письменной культуре. Однако обычай нельзя назвать консервативным: «Речь идет о бунтарской традиционной культуре. Низовая консервативная культура во имя обычая часто сопротивляется тем рациональным экономическим инновациям (таким, как огораживание, введение трудовой дисциплины, нерегулируемый “свободный” рынок зерна), которые правители, торговцы или работодатели стремятся ей навязать. <...> То есть низовая культура является бунтарской, но это бунт в защиту обычая»[9]. Например, обычай требовал не завышать фиксированную цену на зерно даже в случае неурожая. Стремление торговцев к получению прибыли было ограничено интересами выживания всех членов общины. Моральная экономия в данном контексте предполагает не просто критику пытающегося подчинить рынок зерна капитализма, а сохранение некапиталистических повседневных практик обмена и локальных социальных связей, опирающихся на совместный трудовой опыт. Подобное сочетание повседневных практик, нормативных структур и социальных отношений, по мнению Томпсона, и формировало основу common sense — одновременно здравого смысла и «общего чувства», во многом разделяемого даже представителями джентри, признававшими в определенных случаях право народа на восстание. «Здравый смысл возникает из совместного с другими рабочими и нищими соседями опыта, из лишений и репрессий, которые постоянно разоблачают патерналистский спектакль и ведут к его иронической критике, а зачастую и к восстанию»[10]. Именно эти прагматический здравый смысл и «общее чувство», а не экономическая рациональность или капиталистическая эффективность становятся ключевым фактором мотивации для британской бедноты. Ее действия нельзя описывать ни в терминах романтического словаря «национальных традиций», ни в рамках либеральной политэкономии А. Смита. Не прибыль или верность традиции, а выживание является ее главным мотивом. Более того, сводить ее поведение к экономической детерминанте — значит описывать ее в терминах победившей системы знания/власти, которой она ожесточенно сопротивлялась.
Промышленный переворот и установление гегемонии капиталистической экономики в Европе не означали полного забвения моральной экономии плебса и подчинения повседневной низовой культуры. Периодические восстания и войны XIX — первой половины ХХ в. питались их недовольством — не просто ностальгией, но активным стремлением сохранить прежние обычаи и некапиталистические повседневные практики взаимодействий и обменов. Развивая эту линию мысли в своей книге «Моральные экономии Р. Тоуни, К. Поланьи, Э.П. Томпсона и критика капитализма» (2017), Т. Роган доказывает, что часть интеллектуалов ХХ в. оказалась напрямую вовлечена в эти практики солидарности. Известный британский историк Р. Тоуни обнаружил их действенность, преподавая в Стаффордшире, где его студенты и соседи были заняты на керамическом производстве и в угольной промышленности; экономист К. Поланьи открыл их для себя в муниципальном социализме Вены 1920-х гг.; Э.П. Томпсон — будучи учителем в школе для взрослых (рабочих) в Йоркшире. В каждом случае солидарность позволяла жителям локальных сообществ поддерживать друг друга в повседневной жизни. Роган доказывает, что взгляды Тоуни, Поланьи и Томпсона сложились благодаря не только рациональному осмыслению, но и аффективному воздействию этой пролетарской/низовой культуры. При этом речь идет не просто о тактиках выживания, а (в конечном счете) об определенном понимании природы человека: «Неприятие прагматической концепции гуманности — идеи экономического человека — было распространено и в викторианской литературе. Но Тоуни, а затем Поланьи и Томпсон сделали следующий шаг, перейдя от критики утилитаристского понимания человека к альтернативному пониманию того, что значит быть человеком»[11].
Итак, именно эту линию мысли, попытку скорректировать современное понимание природы человека через поиск альтернатив прагматическому индивидуализму и (пост)структуралистскому растворению индивидуальности продолжает Боддис в своей «Истории эмоций». Он подчеркивает, что моральная экономия не относится ни к индивидуальному уровню, ни к уровню социальных структур: «Моральная экономия определенно не связана с индивидуальной психологией и вообще отрицает психологизм. Более того, моральная экономия оказывается множественной, ибо формируется конкурирующими между собой сообществами, аффективные практики которых никогда полностью не совпадают» (с. 195). Именно в этом контексте он вслед за Л. Дастон обращается к исследованию академических сообществ и их практик трансляции знания. По мнению Дастон и Боддиса, академические сообщества объединены не просто на институциональном, а на аффективном уровне: этос их деятельности исключает эмоциональную ангажированность, однако их члены глубоко преданы своему делу, служение которому требует от исследователей синтеза рациональных суждений, ценностей и неосознанных габитусов. Для Дастон моральная экономия — это «сеть аффективно-насыщенных ценностей, которые функционируют в четко определенном согласии друг с другом»[12]. Моральной она оказывается в смысле психологической нормативности — валоризации объектов и практик, придания им эмоциональной интенсивности. Экономия же предполагает систему регулирования, отличную от финансовой или трудовой. Такое регулирование находится на том же уровне, что и фукольдианская микрофизика власти, но принципиально отличается от политического контроля. Самодисциплина здесь неотделима от характера академических практик — она оказывается внутренней (личной) и внешней (поддерживаемой сообществом) одновременно.
Для Боддиса эти идеи Дастон важны в двух отношениях. Во-первых, ее трактовка понятия моральной экономии позволяет примирить между собой позиции Редди (с его «эмоциональными режимами») и Розенвейн (с ее концепцией «эмоциональных сообществ»). Разумеется, здесь важен не просто историографический компромисс, но указание на сосуществование и конкуренцию гетерогенной «низовой» активности эмоций и их централизации в рамках доминирующего режима знания/власти. Напряжение между этими полюсами создает силовое поле, в рамках которого и существуют сообщества аффекта. Во-вторых, такой теоретический заход позволяет Боддису обозначить перспективы изменений в академическом сообществе, этос которого одновременно нормативен и аффективен. Понятие моральной экономии позволяет прояснить конкретные конфигурации социальных норм, повседневных практик, рациональных суждений, эмоций и телесных габитусов. В этом смысле «исследование моральной экономии может стать метанарративом для историописания в эпоху постпостмодерна» (с. 201).
Анализируя истоки современной моральной экономии академического сообщества в другой своей книге — «Наука симпатии: мораль, эволюция и викторианская цивилизация» (2016), — Боддис отмечает, что дисциплинарное обособление естественных наук от гуманитарных во второй половине XIX в. сопровождалось возникновением разрыва между общими моральными установками (тезисом Ч. Дарвина о симпатии как основе морали) и связанными с насилием практиками исследования — вивисекцией, вакцинацией, евгеникой и т.д. Первое поколение дарвинистов пыталось снять эти разногласия благодаря специфической трактовке понятия «симпатия», целью которой выступало сокращение страдания и выживание сообщества (пусть даже ценой страданий отдельного индивида или животного)[13]. Возникшие в эпоху Просещения представления о природе человека и кантовский категорический императив здесь еще фигурировали в качестве горизонта ожиданий. Но разделение академических дисциплин, социальные катаклизмы и общее изменение эмоционального режима в ХХ в. все больше размывали общий профессиональный опыт и понимание связи своих действий с интересами общества в целом. Поэтому постепенно академическое сообщество разделилось на множество замкнутых коллективов, соприкасающихся друг с другом, но не имеющих единой мировоззренческой перспективы. Научное знание все чаще стало приобретать рецептурный характер и оцениваться с точки зрения прагматической эффективности. Соответственно, росло напряжение между прежним (общим) научным этосом и отдельными практиками исследования. Это напряжение, по мнению Боддиса, преодолевалось за счет эмоциональной работы внутри малых академических групп или лабораторий, а также аффекта, роль которого существенно возросла в академической сфере по сравнению с XIX в. Аффект связан с подавлением эмоций, вызванных рутинными, а также использующими насилие исследовательскими практиками (например, вивисекцией), недовольством бюрократизацией науки, а отчасти и кризисом общественных идеалов эпохи «модерности».
Однако только ли объяснительную функцию выполняет понятие аффекта у Боддиса? Почему оно столь важно для автора? И почему работа аффекта остается невидимой для самих представителей академических сообществ? Отвечая на эти вопросы, отметим важность дисциплинарных рамок: понятие аффекта позволяет напоминать «естественникам» о весьма специфической истории (причем недавней) их исследовательских практик и показать ограниченность современного «рецептурного» режима знания. Здесь важна не морализация или критика, а историческая проблематизация вопроса о вовлеченности исследователя. Анализ истории эмоций для Боддиса (как и для Плампера, Редди и многих других представителей этого направления) — не просто построение новых теорий, а проработка современных комплексов взаимосвязи аффектов — эмоций — суждений и трансформация существующих эмотивов, нормативных форм выражения, рамок их восприятия и механизмов трансляции[14]. Кроме того, вопрос об аффекте косвенно подталкивает нас к переосмыслению истории «модерности», в которой важны не только государственные институты и общественная мораль, но и борьба низов за выживание, а также распространенные в академической среде аффективные практики и повседневный опыт разных эмоциональных сообществ.
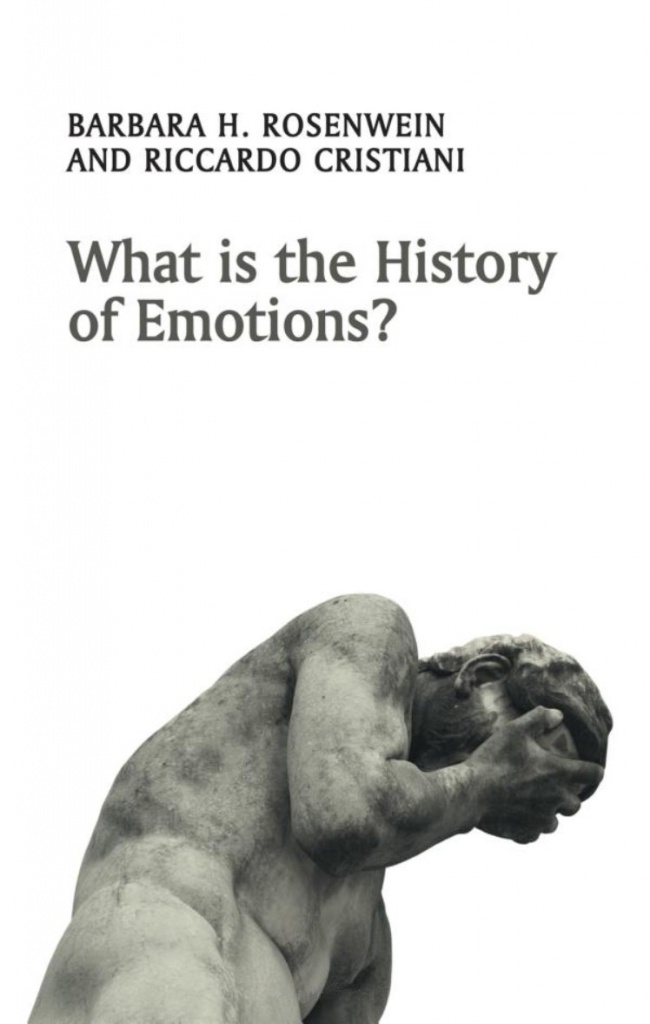
Касаясь проблемы эмоциональных сообществ, нельзя не обратить внимания на совместную работу Барбары Розенвейн и Рикардо Кристиани «Что такое история эмоций?», которая адресована прежде всего историкам и содержит в себе указание на непреодолимый дисциплинарный разрыв между ними и представителями нейронаук. Наиболее актуальной задачей истории эмоций авторы считают выстраивание диалога внутри академической историографии — между исследователями античности, медиевистами и историками Нового времени. Поэтому в центре внимания Розенвейн и Кристиани оказывается не генеалогия истории эмоций или обзор современных междисциплинарных исследований, как у Плампера или Боддиса, а методологическое различие существующих историографических подходов. Эта полемика накладывается во второй главе («Подходы») на предложенное С. Мэтт разграничение трех волн истории эмоций: конструктивистских исследований «эмоциональных идеалов» в духе П. Стернса, постструктуралистского анализа различий между индивидуальным эмоциональным опытом и социальными конвенциями «эмоциональных режимов» у сторонников Редди и, наконец, исследования сосуществования разных эмоциональных сообществ в работах самой Розенвейн и ее последователей (с. 33—34). Для Редди важны политический контроль эмоций и разграничение форм их публичного/приватного выражения. С его точки зрения, «старый режим» во Франции стремился абсолютно контролировать не только поведение, но и эмоции своих подданных, которые искали «эмоционального убежища» в светских салонах, сентименталистских театральных постановках, масонских ложах и кофейнях. Именно эти поиски «эмоциональной свободы» в конечном итоге спровоцировали социальную революцию во Франции[15]. Розенвейн категорически не согласна со столь линейной схемой объяснения и справедливо отмечает важность, с одной стороны, преемственности языка выражения эмоций между античными и средневековыми текстами, а с другой — различие эмоциональных практик между разными поколениями, а также перформативный характер эмоциональной речи в конкретной ситуации. С ее точки зрения, эмоциональные сообщества всегда сосуществуют, конкурируют, воздействуют друг на друга; их границы оказываются проницаемы для внешних культурных влияний.
При этом свою позицию Розенвейн и Кристиани прямо называют конструктивистской и когнитивистской (с. 40). Эмоции хотя и не полностью определяются социально-политическими рамками (или «режимами» Редди), но всегда зависят от культурного языка и устойчивых практик коммуникации. По мнению авторов, даже перформатив («действие при помощи слов» в формулировке Дж. Остина) предполагает не столько изменение этих рамок, сколько следование общепринятым кодам (с. 61). В третьей главе («Тела») значительное внимание авторы уделяют исследованиям аффекта. Но если сторонники «поворота к аффекту» чаще всего противопоставляют это понятие эмоциям как до-сознательную интенсивность, то в трактовке Розенвейн и Кристиани аффект скорее включается в эмоции. Их взаимосвязь конструируется через тела и объекты материальной культуры, повседневные практики, гендер, организацию социального пространства, а также пространство ментальное (сны, литературное воображение и т.д.). Аффект оказывается частью сложной социально-культурной системы интеграции тела в его окружение (с. 82), работающей по законам языка и репрезентации как системы производства культурных смыслов.
Трудно не согласиться с тезисом авторов о важности для истории эмоций диалога, не стирающего различия, но иногда стремящегося их заострить, чтобы в перспективе согласовать позиции либо разойтись по принципиальным вопросам. Как и с их указанием на важность публичного измерения исследования эмоций[16]. Однако для Розенвейн и Кристиани речь идет именно о популяризации академического знания — использовании интереса к видеоиграм и другим медиа как повода для обсуждения выработанных интеллектуалами концепций. Соответственно, вопросы о природе гуманности и актуальных макросоциальных проблемах для них оказываются за рамками научного анализа.
Таким образом, Боддис, Плампер и Розенвейн с Кристиани по-разному видят задачи истории эмоций и ее будущее. Первый с оптимизмом смотрит на перспективы междисциплинарного сотрудничества с нейробиологами, физиологами и особенно историками науки. Розенвейн и Кристиани крайне скептичны по отношению к подобным ожиданиям. Наиболее же продуктивной в этом отношении представляется позиция Плампера, который интересуется междисциплинарными проектами, но предостерегает от завышенных ожиданий на этом фронте. Однако не стоит и ограничиваться «программой-минимум», сведением истории эмоций к диалогу медиевистов и историков Нового времени, — это было бы интересно лишь узким специалистам. Обсуждаемое направление исследований, действительно, все еще находится на стадии определения ключевых понятий и только начинает обобщать результаты отдельных успешных проектов. И стремление ограничить дисциплинарные рамки вместо поиска путей их расширения в этом контексте не особенно продуктивно. Тела, эмоции, аффекты и повседневные тактики существования оказываются в этом случае абсолютно гетерогенными феноменами, не связанными между собой ничем, кроме выработанной еще в эпоху Просвещения достаточно отвлеченной идеи «гуманности». Поэтому предельно актуальной задачей для истории эмоций сегодня представляется поиск более внятных интеллектуальных рамок и жизнеспособных академических практик работы с ними, опирающихся не только на (капиталистический) этос эффективности, но и на повседневное измерение опыта разных социальных групп и эмоциональных сообществ.
[1] См. рецензируемую ниже книгу Б. Розенвейн и Р. Кристиани «Что такое история эмоций?» (с. 1—2).
[2] См., например: Boquet D., Nagy P. Medieval Sensibilities: A History of Emotions in the Middle Ages. Cambridge: Polity, 2018; Feeling Things: Objects and Emotions through History / Eds. S. Downes, S. Holloway, S. Randles. Oxford: Oxford University Press, 2018; A Cultural History of the Emotions. Vols. 1—6 / Eds. A. Lynch, J.W. Davidson, S. Broomhall. L.: Bloomsbury Academic, 2019; Boddice R. A History of Feelings. L.: Reaktion Books, 2019.
[3] Яркость языка здесь сочетается с впечатляющей широтой сюжетов, привлекаемых в ходе анализа, — от использования В. Путиным свойственной А. Меркель боязни собак (с. 60—62) до отношения к страданию в буддийской культуре (с. 123—125), от антропологических описаний страха у маори (с. 10) до концепции физиологии страха Дж. Леду (с. 6—8, 343—345).
[4] Напомним лишь одну его известную цитату: «Подумать только — у нас нет истории Любви! Нет истории смерти. <…> До тех пор, пока они не осуществлены, не приходится говорить о подлинной истории вообще» (Февр Л. Чувствительность и история // Февр Л. Бои за историю. М.: Наука, 1991. С. 123).
[5] Розенвейн критикует «гидравлическую» теорию эмоций Н. Элиаса и Й. Хейзинги, согласно которой чувства «вскипают» и проявляют себя через тело, равно как и концепцию «эмоциональных режимов» У. Редди, прослеживающую контроль эмоций со стороны знания/власти. Сама Розенвейн использует термин «эмоциональное сообщество», предполагающий гибкость выражения чувств, а также сложные констелляции между несколькими эмоциями, а не центральную роль какой-то одной из них (см. об этом ниже).
[6] М. Шеер выделяет четыре типа эмоциональных практик: мобилизующие, именующие, сообщающие и регулирующие. Подробнее см.: Scheer M. Are Emotions a Kind of Practice (and Is That What Makes Them Have a History)? A Bourdieuan Approach to Understanding Emotion // History and Theory. 2012. Vol. 51. № 2. P. 193—220.
[7] Плампер то и дело критикует завышенные ожидания по поводу нейронаук, сравнивая увлечение ими с «попойками, за которыми наступит ужасное похмелье» (с. 15).
[8] «Само понятие “культура”, предполагающее некий мирный консенсус, может отвлекать внимание от социальных и культурных противоречий, от разрывов и антагонизмов внутри этого целого» (Thompson E.P. Customs in Common. L.: Penguin Books, 1991. P. 6).
[9] Ibid. P. 9.
[10] Ibid. P. 11.
[11] Rogan T. The Moral Economists: R.H. Tawney, Karl Polanyi, E.P. Thompson, and the Critique of Capitalism. Princeton: Princeton University Press, 2017. Р. 7.
[12] Daston L. The Moral Economy of Science // Osiris. 1995. Vol. 10. P. 6.
[13] При этом Боддис подчеркивает: «Это был не просто вопрос логики, но эмотивный процесс: выстраивание динамических отношений между мышлением и чувством, чувством и действием, действием и эмоциями. Новые предписания эмоционального выражения и моральные интенции были изначально инкорпорированы в эти новые практики…» (Boddice R. The Science of Sympathy: Morality, Evolution, and Victorian Civilization. Urbana; Chicago; Springfield: University of Illinois Press, 2016. Р. 141).
[14] «Я считаю, что абстрактный научный анализ природы эмоций требует определенной эмоциональной работы, способствующей физическому воплощению этих абстракций» (Ibid. Р. 17).
[15] См.: Reddy W. The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions. Cambridge, N.Y.: Cambridge University Press, 2004. Схожим образом Редди объясняет появление романтической любви в поэзии раннего Возрождения поиском «эмоционального убежища» для аристократии после церковных реформ брака и ужесточения регламентации семейного поведения в XI—XII вв. См.: Reddy W. The Making of Romantic Love: Longing and Sexuality in Europe, South Asia, and Japan, 900—1200 ce. Chicago; L.: University of Chicago Press, 2012.
[16] В качестве примера авторы вспоминают успех знаменитой работы Натали Земон Дэвис «Возвращение Мартина Герра» (1983) и одноименный фильм с Жераром Депардье (1982): по их мнению, история эмоций остро нуждается в таких же популярных проектах.