Журнальный клуб Интелрос » НЛО » №162, 2020
A Poetics of Neurosis: Narratives of Normalcy and Disorder in Cultural and Literary Texts.
Eds. E. Furlanetto, D. Meinel.
Bielefeld: Transcript, 2018. — 203 S. — (Culture & Theory. Vol. 161).
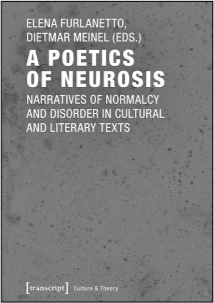
Когда-то Зигмунд Фрейд сказал: все люди — невротики. Если верить современным авторам, неврозом страдать могут не только люди, но и аквариумные рыбки. На почве детской травмы невроз развился и у героини романа Фицджеральда «Ночь нежна», и у рыбки Марлина из анимационного блокбастера «В поисках Немо». «Колониальный субъект» страдает неврозом раздвоенности, а жителям современного мегаполиса свойственна базовая тревожность. В ХХ в. невроз сделался универсальной категорией, и немалую роль сыграли в этом писатели. Давно замечено, что некоторые пациенты Фрейда как две капли воды похожи на персонажей новелл Артура Шнитцлера, его земляка и современника. Невроз продолжает окрашивать дискурс модерна и постмодерна, включая посты в «Фейсбуке».
Книга «Поэтика невроза: нарративы нормальности и расстройства в литературных и культурных текстах» составлена из материалов двух коллоквиумов — «Империя и невроз» и «Невроз и социальная трансформация», которые в 2015—2016 гг. оганизовали молодые исследователи из Ассоциации англофонных постколониальных исследований в Университете Дуйсбурга—Эссена. На этих коллоквиумах аспиранты и постдоки не только обсуждали доклады, но и обучались академическому письму. Тем не менее книга получилась далеко не ученическая, хотя, как и в любом сборнике, в ней есть статьи разного качества и разного стилистического достоинства. Объединяет их понятие невроза, используемое в литературных произведениях и других текстах. Использоваться оно может по-разному: как диагноз (когда, например, автор наделяет персонажей теми или иными «невротическими» чертами), как аналитическое понятие (когда невротической объявляется чья-то ментальность и культура — «колониального субъекта», этнического меньшинства, иммигрантов и т.д.), как метафора, отсылающая либо к слабости и уязвимости того, о ком говорится, либо, напротив, к силе и способности этот невроз преодолеть.
Авторы книги, по выражению редактора-составителя Дитмара Майнеля, проходят путь «от диагностики к поэтике». Майнель напоминает: «невроз» формировал медико-психологический дискурс почти два столетия и лишь сравнительно недавно, в 1994 г., исчез как самостоятельная категория из «Диагностико-статистического руководства» — стандарта классификации, принятого Американской психиатрической ассоциацией. По замечанию журналиста Бенедикта Карея, биомедики разобрали этот диагноз на мелкие части: паника, социальная тревожность, синдром навязчивости… Деконструкция прежде всего затронула истерию, которая считалась одной из главных разновидностей невроза и болезнью по преимуществу женской, отчего ее деконструкцией занимались, среди прочих, феминисты. И хотя слова «невроз», «невротический» из повседневного дискурса никуда не делись (они очень удобны, когда разговор идет, например, о нарциссизме и селфи), в публичных дискурсах троп «невроз» оттеснен другим — «травмой». В последнюю четверть ХХ в. появилось новое направление — trauma studies, которое после 11 сентября 2001 г. превратилось в целую индустрию.
Майнель предостерегает от того, чтобы смешивать диагноз с метафорой и диагностировать литературные персонажи так, как врач — реальных пациентов. Не заботясь о точности диагноза, сами писатели часто романтизируют душевную болезнь, пользуясь ею как краской в своих живописаниях. Что касается культурологов, то они — как, например, Джон Рассон в книге «Человеческий опыт: философия, невроз и элементы повседневной жизни» — укореняют невроз в западноевропейской философии телесности, embodiment’е и интерсубъектности (см.: Russon J. Human Experience: Philosophy, Neurosis, and the Elements of Everyday Life. Albany, 2003). Собственное исследование Майнель посвящает полнометражному компьютерному анимационному фильму «В поисках Немо» (2003, реж. Э. Стэнтон) — истории из жизни рыб с Кораллового рифа. Главный герой, Марлин, пережил детскую травму и получил невроз, и все его дальнейшие приключения строятся на мотиве изживания этого посттравматического невроза. В фильме есть и другие невротики, вроде страдающей кратковременной амнезией рыбки Дори. Так, полушутя, Майнель подчеркивает вездесущность дискурса травмы/невроза (если не как медицинского диагноза, то как культурного концепта). Полезная функция этого дискурса, по мнению исследователя, заключается в том, что он помогает проблематизировать понятия нормы, нормальности, нормативности. Отсылающие к понятиям совладания, заботы и принятия, нарративы невротичности часто оказывают целительный эффект (в отличие от нарратива целостности/цельности). Невроз может служить фигурой не только умаления, но и усиления (empowerment) персонажа — именно это и наблюдает Майнель в мульфильме «В поисках Немо» (побившего, кстати, рекорды по популярности и кассовым сборам). Он также упоминает психоаналитическую трактовку невроза, которую удачно использовал актер и режиссер Вуди Аллен, создавший в своих фильмах и актерских работах амплуа не «городского сумасшедшего», а «столичного невротика».
Следующая за Введением статья Ласло Мунтеана (László Munteán) — о психастении как мнемотехнике — написана на материале романа Майкла Каннингема «Избранные дни» («Specimen Days», 2005). Речь в романе идет о травме 9/11, в результате которой главный герой испытывает деперсонализацию — чувство потери собственного «я». Деперсонализация традиционно считалась основным симптомом психастении, а последняя, наряду с истерией, считалась в первой половине ХХ в. одним из главных неврозов. Кроме чувства потери «я» у героя романа есть такая особенность: при воспоминании о травмирующем событии, особенно о людях, выпрыгивающих из окон горящих башен-близнецов, он непроизвольно цитирует «Листья травы» Уолта Уитмена. Писатель интерпретирует это и как симптом навязчивости, и как психологическую защиту — своего рода трансцендентальный компас, указывающий дорогу сквозь дебри травматических переживаний.
Несколько статей сборника посвящены «колониальному субъекту», о котором впервые написал Франц Фанон, психиатр из Магреба и один из родоначальников постколониальных исследований. В статье Елены Фурланетто рассматривается диссоциативное расстройство у населения колоний. Среди его проявлений — амнезия, синдром диссоциации (расщепления, «множественной личности»), а также деперсонализация и особая «колониальная тревожность». Все это Фурланетто находит в романах Орхана Памука, а особенно в его «Черной книге». Писатель пользуется этим тропом для критики культурной вестернизации Турции и полуколониальной политики Запада в этой стране. Колониальный невроз, считает исследовательница, — результат условий, разрушающих культурную преемственность и связь индивида с традицией. Диссоциация личности в прозе Памука — синекдоха диссоциированной культуры, расщепления коллективного «я» у турок. «Книжный», оторванный от реальности характер, уход в фантазию свойственны как невротикам Фрейда, так и персонажам Памука. Уроки медицины соединяются с уроками истории.
Ярула Вегнер слушает рэп вместе с Фаноном и прочитывает Фанона через рэп. В книге «Черная кожа, белые маски» (1952) Фанон впервые описал то, что назвал «колониальным неврозом»: отсутствие цельности колониальной культуры, своего рода невротическую диссоциацию. А современные нам исполнители Masta Killa и Inspectah Deck читают рэп о «капюшоне» и «гетто» как о пространствах, провоцирующих невроз. Разделение черной и белой рас, как считает Фанон, порождает массивный психосоциальный комплекс. Анализируя, мы его разрушаем. И если Фанон призывал изменять будущее через трансформацию прошлого, то рэперы пересматривают историю черного рабства, создавая ее альтернативные версии.
Тема невроза и черной субъектности рассматривается и в статье Алекса Блю Пятого (Alex Blue V) «Разве это не смешно?». Это название — цитата из рэпера Дэнни Брауна и из шоу с его же участием. В шоу дядя Дэнни (которого играет сам рэпер) — единственный афроамериканец среди белых актеров, исполняющих роли членов одной семьи. Дядя Дэнни — трагический персонаж, он страдает от алкогольной и других зависимостей, но члены семьи лишь подсмеиваются над ним. Согласно трактовке Блю, перед нами повествование о неврозе, раздвоенности и вуайеризме, разивающихся на почве черной субъектности. Вуайеристы — белые члены семьи, которые постоянно подсматривают за своим черным родственником; их «белый взгляд» ставит его в подчиненное, униженное положение. Дядя Дэнни лечит свой невроз алкоголем и наркотиками, что лишь усугубляет его страдания.
К понятию о «колониальном субъекте» обращается и Шехарика Рой в статье «Аллегории патологии». По ее мнению, Николь Уоррен из романа Фицджеральда «Ночь нежна» (1934) и майор Планкетт, персонаж эпической поэмы Дерека Уолкотта «Омерос» (1990), страдают неврозом. Родившаяся в колонии Николь испытала в детстве сексуальное насилие со стороны отца. А майор, живущий в британских колониях, получил травмы на Первой мировой войне. Планкетт мечтает о сыне, и его мечты созвучны поискам Телемахом своего отца в «Одиссее» Гомера. Но если переживания Николь и Планкетта можно описать на психологическом или психоаналитическом языке, то гомеровскому времени этот язык чужд. В античных текстах есть место трагедии и нет — неврозу. Персонажи Фицджеральда и Уолкотта лишь пародируют Одиссея: войны, свидетелями или участниками которых они были, невозможно представить как личную или моральную победу: напротив, эти войны — знак провала цивилизации и этики. В отличие от вернувшегося на Итаку Одиссея, современные персонажи не могут найти успокоения дома, освобождение от невротических страданий возможно для них лишь на путях встревоженного и тревожащего мира.
Ариана де Вааль в статье «Неолиберализм, террор и этиология невротического гражданства» обсуждает «невротические» черты современного мегаполиса на примере Лондона. Она пишет о стремлении горожан «обезопасить» себя — о видеонаблюдении и других мерах предосторожности в публичном пространстве, о переходе автомобилистов на внедорожники и т.д. Политики все чаще используют идиомы «война с террором», «угроза национальной безопасности». «Безопасность» на всех уровнях — национальном, экономическом и семейном — становится главным лозунгом партии консерваторов в их соперничестве с партией лейбористов. Гражданский и неолиберальный дискурсы переплетаются с дискурсами контртерроризма и психоанализа. «Невротический гражданин», по мнению де Вааль, занимает важное место в социоэкономической и расовой иерархиях культурного мейнстрима. Этот гражданин — белый, из среднего класса, христианин или светский человек; в силу своего статуса он имеет доступ к символическим и финансовым ресурсам, позволяющим проводить «политику безопасности»: укреплять свой дом, милитаризировать публичное пространство, устанавливать контртеррористическую слежку и т.п. Тревогу у людей вызывает не сам терроризм, а разлитое в воздухе неолиберального капитализма неопределенное чувство опасности. Исследовательница делает вывод, что психоаналитическая модель все еще находит применение.
Дерья Гюр-Шекер видит «невроз тревожности» (Angstneurose, по Фрейду) в риторике союза немецких правых «Европейцы-патриоты против исламизации Запада» («Пегида»). Неверно, однако, называть членов этой организации «невротиками», как делают их политические оппоненты. Ведь «Пегида» сама умело использует риторику страха для мобилизации новых членов и для того, чтобы восстановить общественное мнение против иммигрантов. Иную точку зрения на невроз — как на то, что помогает людям сопротивляться, — предлагает Анджело Монако в исследовании рассказов Джумпы Лахири. Лахири — писатель из индийской диаспоры, которая в США получила прозвание «образцовое меньшинство» (model minority). Это иммигранты, приехавшие в страну после принятия законов 1995 г., отличающиеся высоким уровнем образования. Их ценности — семья, родительские обязанности, труд и карьера, а их доходы выше среднестатистического дохода белого американца. Но это касается лишь мужчин: положение женщин-иммигранток совсем иное. Живущие в достатке, но не работающие, жены-домохозяйки испытывают «невроз пригородов» («suburban neurosis») — депрессию, тревожность, ностальгию и «расовую меланхолию». Иммиграция — это «обещание счастья», она порождает «объект желания» (по Жаку Лакану) — аффект, имеющий перформативные качества. Однако счастье достигается только в деятельности, через способность что-то делать, совершать. Жены иммигрантов из Индии выплескивают свою ностальгию в приготовление блюд родной страны и другие привычки обихода. В своих меланхолических рассказах Лахири погружает читателя в хрупкую атмосферу сочувствия к людям, которые оторваны от своего прошлого и вынуждены адаптироваться к чуждой культуре. Невроз здесь — заключает Монако — это фигура речи, способ автора говорить о меланхолии, уязвимости и эмпатии — с надеждой прийти в конце концов к пониманию и человеческой солидарности.
Сборник будет интересен тем, кто ищет выхода за границы литературоведения — в области постколониальных исследований, memory studies и trauma studies. Не все вошедшие в него статьи способны удерживать внимание читателя: в некоторых длинно пересказываются произведения, и это либо скучно, либо излишне. С другой стороны, не стоит ждать от книги детальных описаний неврозов и других расстройств — она не является учебником психиатрии и не принадлежит к уже поднадоевшему жанру патографии. Анализировать литературного героя так, как врач осматривает пациента или как психоаналитик расспрашивает невротика, не нужно и не уместно. Для литературы «невроз» — средство критического исследования, создания таких персонажей, которые транслировали бы отношение автора к обществу и современности. Наконец, авторы сборника показывают, в какой степени медицинский, психологический и психоаналитический дискурсы переплетены — в литературе и обыденной жизни — с дискурсами социальным и политическим.
Ирина Сироткина
Федута А.И. Следы на снегу
Минск: Лимариус, 2018. — 328 с. — 300 экз. — (Наш XIX век).
Федута А.И. Филомат в Империи: Документальная повесть о Франтишке Малевском
Минск: Лимариус, 2019. — 464 с. — 300 экз. — (Наш XIX век).
Российско-польские культурно-исторические связи — тема обширнейшая, имеющая массу разнообразных аспектов, являющаяся объектом внимания не одного поколения исследователей. Ученый из Беларуси, историк литературы Александр Федута, принадлежит к новейшей их генерации. Книги А.И. Федуты на эту тему выходили и ранее (Письма прошедшего времени: материалы к истории литературы и литературного быта Российской империи. Минск, 2009; Сюжеты и комментарии. Вильнюс, 2013, и др.). И вот новинки последних двух лет — сборник «Следы на снегу» и монография о Ф. Малевском «Филомат в Империи». Мы остановимся на первом с учетом того, что разделы из книги о Малевском входят в него.
Во вступительной заметке Федута отмечает, что как историка его «больше всего интересуют люди, жившие в хронотопе Пограничья», поскольку это связано с его личной судьбой и судьбой его семьи (Беларусь, Гродно, Литва). Естественно, что в центре этого хронотопа старый Вильно (Вильна), перекресток польской и русской культур. Однако в реальности географические пределы изысканий Федуты оказались гораздо шире. Выяснилось, что «следы на снегу» (автор толкует эту метафору как знаки «жизни человека в истории) прежде всего ведут в Петербург. И не только туда — в Москву, на Урал, наконец, в Англию, Германию, Италию… Так разнообразно и прихотливо сложились судьбы людей из окружения Адама Мицкевича, как выходцев из самой Вильны — нынешнего Вильнюса, так и шляхты из фольварков белорусско-литовской Виленщины, в том числе принадлежавшей к кругу филоматов, очерки, заметки, эссе о которых составили рецензируемую книгу.
Но какими бы ни были они, эти пути и судьбы, совершенно очевидно, что многое в них определила Российская империя. В этом убеждают не только «Этюды о текстах Мицкевича и их интерпретаторах», рассказывающие о переводах К.С. Сербиновича, рассуждения об особенностях знаменитых импровизаций, с которыми Мицкевич выступал в Петербурге, и их восприятии русской публикой. Если творчество Мицкевича становится, по приводимому Федутой замечанию современной исследовательницы, «важной частью живого литературного процесса в России» и «русская литература осваивает его не только на уровне переводов, но и на глубинном уровне влияния поэтики и эстетических концепций», то сами биографии ряда поляков становятся существенной частью истории Российской империи.
И потому сюжет о Мицкевиче в Петербурге — это не просто страница биографии автора «Дзядов». Это страница в истории русской литературы, культуры. По-разному сложились судьбы людей из филоматского окружения Мицкевича. Отбывал ссылку в Оренбурге Томаш Зан. За него хлопотал губернатор Сухтелен. Впоследствии Зан был переведен в Петербург. И совершенно головокружительную карьеру сделал Франтишек Малевский, дослужившийся до чина действительного тайного советника. Монография Федуты «Филомат в Империи» вполне могла бы называться «Филомат на службе Империи». Здесь нет никакого предательства идеалов юности. Выдающийся знаток Литовской метрики (материалов канцелярии Великого княжества Литовского XV—XVIII вв.), Малевский посчитал для себя необходимым быть полезным в деле сохранения исторической памяти поляков, литовцев, белорусов. И потому служил не за страх, а за совесть. Хотя империя помнила о начале его пути, и он знал об этом. В очерке «Холодный ноябрь 1830 года (Франтишек Малевский под подозрением)» Федута пишет о том, что «холод начавшейся польско-русской войны лишь слегка задел чиновника Франтишка Малевского», но не сказался «на его дальнейшем карьерном росте и благожелательности к нему начальства, однако помнить о нем Франц Семенович будет всю жизнь».
Вместе с тем Империя была мстительна и злопамятна по отношению к тем, кто открыто выступал против нее. «Оступившихся» и «осознавших грехи юности» она стремилась использовать. Тем более, если иметь в виду филоматов, следует помнить, что они отнюдь не являлись революционерами. Призыв к моральному совершенствованию преобладал у них над критицизмом по отношению к власти. Хотя упрятанная глубоко память об утраченной Речи Посполитой была болезненной и не могла не тревожить. И дело, как нам представляется, не только в том, что, как пишет цитируемый Федутой польский исследователь Е. Боровчик, бывший филомат «склонялся к консерватизму <...> дистанцировался от попыток насильственного изменения мира». В польской общественной жизни, в литературе наступала эпоха позитивизма, связанная с разочарованностью результатами двух безуспешных восстаний (1830 и 1863 гг.) и стремлением укреплять «польское дело» на путях культуры, в сотрудничестве с российской властью.
Империя иной раз прощала своих «заблудших» и покаявшихся «детей» и позволила вернуться в родные места Александру Рыпинскому иЮзефу Ежовскому. Истории их возвращения воспроизведены в книге А. Федуты на основе архивных публикаций, дающих неординарное представление о нравах и обычаях тогдашней бюрократии, когда бывало так, что, как в деле того же Рыпинского, участника восстания 1830 г., мнения чиновников Министерства иностранных дел и III отделения расходились. «Либералы из МИДа» на этот раз победили.
Оценивая разные фигуры, так или иначе проявившие себя в российскопольском культурно-историческом контексте,Федута стремитсяизбежать чернобелых оценок, характерной для авторов некоторых биографий смены «знака, под которым следовало рассматривать их героя, — с минуса на плюс». Это прежде всего касается таких его любимых персонажей, как Юзеф (Осип) Пржецлавский и Генрик Ржевусский. А. Федута особо отмечает, что граф Ржевусский, никак не проявивший себя на российской дипломатической службе, автор романов, превозносивших быт и нравы Великого княжества Литовского, «высмеял надежды на возрождение Речи Посполитой в своих публицистических книгах», которые стали «для радикальной части польских патриотов символом ренегатства и чуть ли не продажности». «Россия, — пишет автор “Следов на снегу”, — представлялась Ржевусскому оптимальным “опекуном” его родной Польши: в конце концов, речь шла о славянских народах, “братство” которых подразумевалось им, как и многими иными его современниками, например А.С. Пушкиным».
Взгляды Генрика Ржевусского представляются мне вполне естественными, эволюционными на фоне страшных катастроф 1830 и 1863 гг., как и его служба чиновником особых поручений при наместнике Царства Польского фельдмаршале И.Ф. Паскевиче и главным редактором правительственной газеты в том же Царстве Польском. Это не коллаборационизм, а эволюция и поиск иных путей под воздействием исторических обстоятельств. Здесь несомненно сближение его с Малевским и другими поляками, пошедшими на службу империи. О неоднозначности личности и мировоззрения Г. Ржевусского свидетельствует его сочинение «О взаимоотношениях литературы с историей», позволившее Федуте поставить вопрос: «Граф Ржевусский — против монархии?» Вероятно, цензура не случайно охарактеризовала работу Ржевусского как утверждение «торжества либеральных начал над строгим монархизмом» и запретила ее публикацию.
Вообще и в монографии о Малевском и в сборнике «Следы на снегу» очевидны колебания Федуты, в которых, кстати, он сам признается: «Можно написать портрет человека в реальности, но уже через мгновение реальность изменится...» С одной стороны, на автора, безусловно, давит польская традиция четкого разделения людей, пошедших на службу империи, и людей, ушедших в оппозицию, уехавших в эмиграцию, ставших ее критиками и врагами. С другой — очевидны сложность жизни, катастрофическое развитие событий в Польше, заставившие его героев задуматься как о судьбе страны, так и о своей собственной. Возможно, с большим основанием по сравнению с Г. Ржевусским характеристику человека «чрезвычайно талантливого и очень неприятного» заслужил Юзеф Пржецлавский. Но опять-таки лично я не вижу за ним особых грехов. Как личность он вполне мог быть неприятен какими-то своими качествами, и можно понять польских повстанцев, учинивших в 1833 г. в Париже показательную казнь куклы Пржецлавского как предателя национальных интересов. Но в то же время исследователь отмечает, что он «был искренне лоялен по отношению к имперским властям». И, в общем, как «видный деятель лояльной к империи части польской диаспоры» вполне понятен. Да, он был директором канцелярии Кодификационной комиссии Царства Польского в Петербурге, дослужился до чина тайного советника. Но, может быть, это был не самый плохой выход: образованный, не жаждущий крови поляк участвует в управлении польскими делами в России? А если помнить о том, что в издававшейся под редакторством Пржецлавского газете «Tygodnik Peterburski» печатались такие замечательные писатели, как Михал Грабовский, Генрик Ржевусский,Юзеф Крашевский, Ян Барщевский, что он оставил интереснейшие воспоминания о Петербурге первой половины XIX в. и о многих замечательных личностях того времени, то, пожалуй, положительная оценка может и перевесить. В пользу Пржецлавского свидетельствует и приводимая Федутой история о том, как он сумел отказать шефу жандармов А.Х. Бенкендорфу, когда тот потребовал, чтобы редактируемая им польская газета параллельно выходила и на русском языке. Хотя для подлинного патриота это, возможно, и мало.
С. Букчин
Тысячелетие России в записках, мемуарах, воспоминаниях.
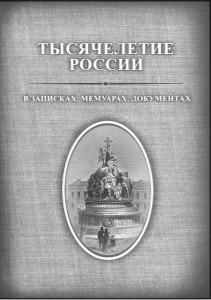
Сост. А.В. Кошелев. Великий Новгород, 2019. — 522 с.
27 марта 1857 г. министр внутренних дел С.С. Ланской обратился в Комитет министров с предложением отпраздновать тысячелетний юбилей Российского государства сооружением в Новгороде памятника первому русскому князю Рюрику. Это предложение было поддержано императором Александром II и обсуждалось на заседании Комитета министров 16 апреля 1857 г. В процессе обсуждения возникла мысль, что памятник должен быть посвящен не основателю, а всему тысячелетнему существованию Российского государства.
Объявление о конкурсе на лучший проект памятника было утверждено 23 апреля 1859 г. и затем опубликовано. В объявлении подчеркивалась главная мысль будущего памятника: он призван был ознаменовать «постепенное, в течение тысячи лет развитие Государства Российского».
Это объявление перепечатано в рецензируемом сборнике, изданном Министерством культуры вместе с Государственным архивом Новгородской области к 1160-летию Великого Новгорода и 100-летию Архивной службы Новгородской области. Им открываются публикации сборника, который посвящен сооружению и открытию в Новгороде памятника «Тысячелетию России». Отметим, что этот сборник — не первая книга, в которой собраны публикации об истории знаменитого памятника. В 2012 г. в Великом Новгороде вышел составленный А.Н. Одиноковым сборник «Из истории памятника Тысячелетию России», который представляет собой такой же сборник воспоминаний, публикаций и документов, как и настоящее издание. Объединяет сборники и сосредоточенность составителей на главном событии в истории памятника — торжественном его открытии 8 сентября 1862 г. Однако в остальном они расходятся. А.Н. Одиноков больше внимания уделял последующей истории памятника, завершая ее материалами, посвященными разрушению и восстановлению памятника, пострадавшего в Великую Отечественную войну, тогда как А.В. Кошелев републикует материалы, относящиеся к предшествующему времени, — времени проектирования и сооружения памятника. Гораздо серьезнее различия в подаче материалов. Если в сборнике А.В. Кошелева отсутствие сведений об Е.П. Карновиче — редкость и потому воспринимается как досадная случайность, то для сборника А.Н. Одинокова, где комментария вообще нет, это является его характерной особенностью, свидетельствующей о недостаточном профессионализме составителя, который даже не смог определить, что автором мемуара «8-е сентября 1862 года. Из воспоминаний современника» был тогдашний министр внутренних дел П.А. Валуев.
Интерес представляют непростые обстоятельства появления новгородского памятника.
Выигравший конкурс проект молодого художника Михаила Микешина не нравился никому из писавших о будущем памятнике. Отсутствие на нем фигур, изображающих русский народ, возмутило известного художественного критика В.В. Стасова и удивило литератора Е.П. Карновича, который считал, что сама идея памятника требовала его совокупного посвящения и русским государям, и русскому народу. В то же время выдающийся русский филолог Ф.И. Буслаев одним из главных недостатков памятника назвал отсутствие внимания к местным интересам народа, что, по его мнению, противоречит принципам народности. «Надобно было, — писал он, — чтоб стекающиеся со всех концов нашего великого отечества видели на памятнике представителей, прославивших ту или другую область, тот или другой город» (с. 63). Однако замечания, высказанные знатоками и ценителями русской старины и народности, практически не были учтены при сооружении памятника.
Вслед за публикациями о конкурсе проектов А.В. Кошелев печатает материалы, посвященные открытию памятника. Они взяты из различных периодических изданий: от официальной «Северной почты» до газет и журналов более либерального толка (какой, к примеру, была ежедневная политическая, ученая и литературная газета «Сын Отечества»). Единственное исключение среди этих публикаций представляет отрывок из дневника старорусского исправника П.И. Новикова, где он рассказывал о том, как ему, откомандированному на праздник в Новгород, пришлось тушить пожар военного госпиталя. Этот пожар напомнил о знаменитых петербургских пожарах второй половины мая 1862 г., в устройстве которых обвиняли радикалов-нигилистов. Ходили слухи о том, что одной из их главных целей якобы был и взрыв самого памятника в минуту его открытия (с. 433). Хотя следствие не обнаружило никаких злоумышлений ни в Петербурге, ни тем более в Новгороде, обстановка была достаточно напряженной. Однако в газетных и журнальных публикациях о новгородском празднике корреспонденты не касались этой темы, сосредоточиваясь на описании памятника или на передаче народных толков о его фигурах и горельефах (см., например, с. 115).
Описывая вышестоящему начальству настроения в Новгородской гимназии, местный жандарм отметил, что некоторые из молодых учителей «весьма свободно выражают идеи социализма и неуважения к правительству» (с. 416), поощряя тем самыми и своих учеников просвещать невежественных «мужичков».
Однако гораздо более серьезный вклад в сборник принадлежит публицистам, пользовавшимся всероссийской известностью.
Остроумно указание Н.И. Костомарова на многое, что сближает современную эпоху с серединой IX в.: «Мир наших нравственных сил, наших понятий и стремлений можно уподобить тогдашнему хаосу, в то время как поле нашей духовной и общественной деятельности столь же велико и обширно, как земля наших предков, и также нет в нас порядка, как его не было в этой земле. Как предки наши в IX веке пришли к необходимости призвать к себе княжеский род, так и нам следует обратиться к главным целям, около которых должны сгруппироваться, сложиться и им подчиниться все наши многообразные современные вопросы» (с. 167).
Иначе считал славянофил И.С. Аксаков. Он был уверен, «что русский народ и теперь, как и в прежние времена, не стал бы ублажать себя горделивыми самовосхвалениями, легкомысленными славословиями и вообще превозноситься земною славою: он понял бы, что такой минуте, какая проживается теперь, такому действию народного самосознания приличны важность и трезвое слово. Он не соорудил бы себе памятника, восхищая прежде времени приговор истории, а воздвиг бы храм Тому, в чьей руке времена и лета, и в этом храме покаяния принес бы всенародную исповедь всех своих исторических неправд и прегрешений!» (с. 169).
Осторожным и предусмотрительным деятелем заявил себя соратник Герцена Н.П. Огарёв. Он призывал брать с рекрутов присягу никогда не стрелять по народу, но потом «всё же надо просить царя о созвании земского собора. Посмотрим — кто он: земский царь или немец?» (с. 180).
В Приложении к сборнику А.В. Кошелев помещает ряд материалов, которые так или иначе связаны с местом и событиями юбилейных торжеств: это — и публичная лекция Н.И. Костомарова «О значении Великого Новгорода в истории России», прочитанная им в Новгороде 3 апреля 1861 г., и отрывки из книги Н.К. Отто и И.К. Куприянова «Биографические очерки лиц, изображенных на памятнике тысячелетия России, воздвигнутом в г. Новгороде в 1862 году» (1862), и отрывки из книги И.К. Куприянова «Прогулка по Новгороду и его окрестностям» (1862).
А.Ф. Белоусов
Беляева И.А. Творчество И.С. Тургенева: фаустовские контексты.
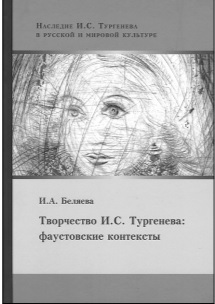
СПб.: Нестор-История, 2018. — 248 с. — 300 экз.
Исследование о влиянии сюжета «Фауста» Гёте на прозу Тургенева богато иллюстрациями: гравюры к «Фаусту» Александра фон Лицен-Майера, мэтра исторической школы XIX в., или акварели тургеневских персонажей К.И. Рудакова, последнего мирискусника, ставшего ведущим советским иллюстратором, сразу погружают читателя в образы «мировой литературы» и позволяют наглядно увидеть параллели, например, комнаты Маргариты и комнаты Фенечки. Необычно, что сбоку от иллюстраций часто, как на слайдах доклада, помещены пространные цитаты, показывающие, сколь сильно может быть похож тургеневский герой на гётевского. И.А. Беляева говорит в названии своего труда не о «подтексте», а о «контекстах», имея в виду, что «Фауст», как и «Дон Кихот», воспринимался Тургеневым как драма о современном человеке. Поэтому Тургенев размышлял не столько о философии или юморе Сервантеса и Гёте, сколько о том, как использовать их произведения в изображении современной социальной жизни.
Вынесенное в заглавие слово «контексты» преуменьшает значение сделанного. В монографии дается обширное и совсем не формальное изложение истории вопроса. Хотя немецко-русская компаративистская тема восходит к книге В.М. Жирмунского «Гёте в русской литературе» (1937), Беляева реконструирует религиозно-философские взгляды Тургенева, своеобразную антропологию писателя (в том смысле, в котором мы говорим о литературной антропологии Рене Жирара, на которого исследовательница ни разу не ссылается) и место его гётеанства в литературных и общественных дискуссиях его времени.
Ключевой тезис книги прост: для Тургенева «Фауст» — великий социально-философский роман, образцово раскрывающий сюжет спасения. Вслед за Белинским Тургенев превозносил первую часть «Фауста» и пренебрегал второй как аллегорической и отвлеченной. В одной и той же книжке «Современника» (1856.№10) были опубликованы повесть Тургенева «Фауст» и первая часть трагедии Гёте в переводе А.Н. Струговщикова. Публикация ознаменовала движение Тургенева от рассказа через повесть к роману, где требуется «отстраненность повествователя» (с. 185), взгляд на характеры с самых общих позиций, даже если рассказывается история очень личная. «Альбомная» иллюстрированная книга Беляевой — подробное исследование того, как лично пережитое и прочувствованное Тургеневым при продумывании коллизий «Фауста» легло в основу как создания больших самобытных характеров, так и их переоценки.
Композиция книги не следует хронологии творчества Тургенева, она подчинена собственной исследовательской задаче. Беляева понимает трагедию Гёте как самый известный и интимно близкий читателям поколения Тургенева рассказ о спасении, хотя сам этот ключевой термин, сюжет спасения, в книге теоретически не раскрыт. Автор начинает с любовных повестей, затем переходит к роману «Отцы и дети», попутно обращаясь к предыдущему, «Накануне», и завершает анализ, нарушая хронологию, «Дворянским гнездом». Именно в этом романе исследовательница усматривает не только гётевские сюжетные ходы, но и гётевские настроения и даже философию «высокой идеи согласия» (с. 209), которая может разыгрываться как в высоком, так и в комическом регистре, как в кантате Лемма в честь Лизы. Иначе говоря, «Дворянское гнездо» для Беляевой — социально-философский роман, а «Накануне» и «Отцы и дети» — социальные романы со сказочными и религиозными аллюзиями. Идейные споры в романах «Дым» и «Новь» почти не упоминаются, «Рудин» рассматривается как первый набросок русского Фауста (и в чем-то Гамлета) в действии, риторика которого близка иногда речам гётевского протагониста, еще не способного разыграть большой сюжет. Вероятно, автор считает, что поиск согласия между славянофилами и западниками в «Дворянском гнезде» вполне исчерпывает спектр идейных дискуссий, связанных с прямым влиянием немецкой культуры.
Где исследовательница говорит об идеях, а не о героях, там она реконструирует тургеневскую философию примирения, основанную на замене западничества европейскостью. Таким европейцем оказывается Лаврецкий, сначала принимаемый и другими героями, и читателями за славянофила. Как формулирует сама исследовательница, говоря о фоновых идейных спорах эпохи как своеобразной педагогике, избавляющей героев от концентрации на одной идее: «Так почему не ожидать неизменного чередования разъединений и соединений в жизни идей?» (с. 202).
В книге впечатляют параллели между женскими образами: знаменитая сцена объяснений Рудина и Натальи Ласунской почти копирует сцену Фауста и Маргариты в саду, при этом Рудин, как показывает Беляева, обладает чертами Фауста и Мефистофеля. Отношения Николая Петровича Кирсанова и Фенечки повторяют отношения Фауста и Гретхен, и здесь Мефистофелем, искусителем приходится быть Базарову (но он же и Фауст!). Тургенев, правда, гуманно уводит своих Гретхен от трагических развязок. Как утверждает исследовательница, страдания возвышают героинь, как и у Гёте, но не разрушают их (с. 81).
Беляева говорит о том, что, в отличие от «Фауста», представляющего панораму искушений, тургеневские романы представляют панораму сомнений. Ведь Тургенев, обращаясь к трагедии Гёте, вспоминает одновременно коллизии «Божественной комедии», «Гамлета», «Дон Кихота» и романтической готической новеллы.
Особое внимание к «Отцам и детям» позволяет исследовательнице разобраться в устройстве конфликта: Базаров как фразер если не говорящий красиво, то думающий красиво (с. 130), выступает как Фауст-неудачник, не совершивший ничего путного, гибнущий из-за нелепой случайности при первой своей операции. Мечтателем-цивилизатором, как и Фауст второй части, был Рудин, так что единый образ расщепляется.
Беляева точно замечает, что образ Фауста-неудачника обязан незнанию Тургеневым текста второй части: писатель полагал, что Фаусту удался его ирригационный проект (с. 128), тогда как текст Гёте однозначно говорит о несостоявшемся осушении болот, о чем Фаусту не дано было знать. Тургенев как реалист считает своих героев по умолчанию всезнающими, и некоторые высказывания Тургенева о Гамлете, приводимые в начале книги, это подтверждают: для него Гамлет вздорен и сознает свою вздорность. Поэтому изобразить трагедию героя для Тургенева означает изобразить недостатки характера, а не канонизированный «Поэтикой» Аристотеля переход от незнания к знанию. Хотя этот переход, заметим, у Тургенева тоже присутствует, пусть и в снятом виде.
При этом сравнение Елены второй части Фауста и Елены Стаховой из «Накануне» доказывает, что Тургенев понимал идею вечной женственности из второй части Фауста. Но мы думаем, что Тургенев усвоил эту идею из трудов Шеллинга, где она изложена очень подробно.
Базаров для Беляевой — архетип русского Фауста (с. 19), к которому обычно относят Печорина и Ставрогина — людей, ищущих полноты бытия, тайны жизни и при этом готовых на жестокие эксперименты над другими людьми, вплоть до преобразования общества насильственными средствами по отвлеченным идеям. Исследовательница тонко анализирует диалог Базарова и Одинцовой (с. 132) об условиях идеального общества и замечает, что Базаров никогда не становится чистым разрушителем, он такой же фразер, как и Рудин.
«Отцы и дети» в конце концов оказываются романом о трагическом одиночестве мыслящего человека (с. 178), о котором говорил, заметим, еще Д.И. Писарев. Но для И.А. Беляевой значение Базарова не ограничивается его драмой. Подлинный Базаров — в памяти о нем, все вспоминают о нем только хорошее и готовы объединяться вокруг его памяти. Мы сомневаемся, правда, можно ли назвать Базарова одиноким, если он всегда все делает напоказ и имеет союзников и адептов при жизни.
Другой неудавшийся Фауст, Федор Иванович Лаврецкий, оказался недостоин своей Гретхен, Лизы, которая, в отличие от гётевской героини, не пала, но показала предельную меру чистоты. Беляева сближает Лизу Калитину с Беатриче, указывая на дантовский интерес времен молодости Тургенева, попытки создать русскую «Божественную комедию», что попытался сделать С.П. Шевырев, и русскую «Новую жизнь», что еще менее удачно попытался сделать А.В. Дружинин. Исследовательница метко замечает (с. 224), что чувство Лаврецкого к Лизе понятно только внутри канона небесной любви, который создавал великий флорентиец в «Новой жизни», и таким образом роман Тургенева заменил недостающего на русском языке Данте. Но заметим, что Данте не согласился бы с тем умолчанием о чувствах, которым завершается «Дворянское гнездо».
Лиза Калитина, ставшая проповедником небесной любви, подчинила себя Промыслу, а не законам психологии: монашество ее стало неизбежным (с. 228). Впрочем, ее пример, по нашему мнению, как раз показывает не одиночество, на котором настаивает исследовательница, а трагический переход от незнания к знанию: ведь она не знала, что Лаврецкий женат. Перед нами почти древнегреческая трагедия, смягченная только фигурами авторского умолчания. Да и Лаврецкого нельзя назвать одиноким, ведь он постоянно испытывает забытые чувства, вспоминает людей и узнает в безвестной монахине свою бывшую возлюбленную — одинокий человек просто бы ее не заметил. Но, в любом случае, исследование И.А. Беляевой открывает большую перспективу для дальнейшей типологии героев русского романа и самого русского романа.
Александр Марков, Светлана Мартьянова
Руднева Е.Г. Избранные статьи о творчестве И.С. Шмелева: к 25-летию Алуштинского музея писателя И.С. Шмелева.
М.: МАКС Пресс, 2018. — 204 с. — 220 экз.
До начала XXI в. довольно верная последовательница Г.Н. Поспелова в теории литературы (теперь таких практически не осталось), Е.Г. Руднева затем выпустила (не в русле преобладающих трактовок наследия одного из главных писателей русского зарубежья) историко-литературные «Заметки о творчестве И.С. Шмелева» (2002) и брошюру «Диалог традиций в повести И.С. Шмелева «Неупиваемая Чаша»» (2007). В новой книге она продолжает свои изыскания и корректирует не только других, но и себя: говоря о двух работах Ильи Шаронова, талантливого крепостного в «Неупиваемой Чаше», критики 1920-х гг. и позднее О. Сорокина фактически превращали «икону в копию портрета, а иконописца в портретиста вопреки воле автора, который <…> всегда называет своего героя живописцем, — подчеркивает Руднева. — Стереотип “два портрета” доминирует до сих пор, его повторяют многие (в их числе я в брошюре 2007 года)» (с. 61). В 1910-е гг. Шмелев не противопоставляет православие и католицизм, его эстетическое сознание сильнее обычая и традиции. В «Неупиваемой Чаше» «идея православной культуры, как и у раннего Гоголя, еще отсутствовала. Поэтому на другой ключевой вопрос эпохи о национальном менталитете (генезис его таится в идее романтической народности) Шмелев ответил не в духе концепции народа — богоносца, а в духе Некрасова и передвижников <…>» (с. 69). Но это в народных сценах. Уже в «Неупиваемой Чаше» писатель во многом отошел от социально-исторического детерминизма. «Его герой, подобно отшельнику, абсолютно одинок и изолирован автором от общественной и умственной атмосферы его времени, от конкретики исторической жизни. Шмелев воплотил в нем универсальный тип уединенного религиозно-эстетического сознания, устремленного к романтическому идеалу <…>» (с. 66). Лишь в эмиграции, и то далеко не сразу (например, «Солнце мертвых» пронизано безрелигиозным отчаянием), он перетолковал повесть «в духе православия и русскости, сузив тем самым ее смысл до религиозного искусства. По этому пути идут многие современные интерпретаторы» (с. 69). Они объясняют все творчество сложного писателя в духе «православного цикла» («Лето Господне», «Богомолье», «Пути небесные»). Руднева отнюдь не выступает против этого «цикла» (действительно, в «Богомолье», а во многом и в «Лете Господнем» достигнута художественно полноценная гармония между изображаемым предметом, настроением героев и автора; более слабый и тенденциозный роман определенно интересует исследовательницу гораздо меньше, на с. 17 она даже называет его главного героя Вейденгаммера Вейгензаттером), но главная ее мысль — та, «что сплошной пересмотр дореволюционного творчества Шмелева под религиозным углом зрения нередко ведется в ущерб его связям с общественной и литературной ситуацией эпохи и (независимо от намерений исследователей) размывает границу между этапами его творческого развития, упрощает и спрямляет его» (с. 9).
В отличие от большинства литературоведов Руднева не идеализирует избранного для изучения писателя. Так, в лучшем его дореволюционном произведении, «Человеке из ресторана», эпизодический персонаж, торговец «теплым товаром», который произносит «слова в духе церковной проповеди: “Без Бога-то не проживешь!”» — в чем многие видят «обращение художника к победе церковной традиции» (с. 28), на самом деле «выпадает из образной целостности повести вследствие своей полной безликости. Он риторичен и лишен жизни. Чтобы убедиться в его нормативности, достаточно сравнить его, к примеру, с “живым” образом отца Василия в рассказе того же года “По приходу”» (с. 29), хотя вообщеШмелев даже в «Богомолье» не тяготел к изображению священнослужителей (в книге Рудневой непосредственно «Богомолью» посвящены лишь статьи о его стилистике и цветовой гамме), главная сфера его творчества — «повседневный быт “простых” (ключевое слово) русских людей <…>, писатель именно в ней ищет идиллическую гармонию бытия, за коростой которого скрывается их нравственная чистота, духовность, душевное богатство <…>» (с. 16). Такова, например, «няня из Москвы» в одноименном сказовом романе 1934 г., но в нем отмечается у Шмелева другой, чем в «Человеке из ресторана», и уже не «эпизодический» недостаток: «Сказочные приключения и сказочные чудеса, причудливые сюжетные перипетии (“Няня из Москвы” и др.) — по-видимому, не самая сильная сторона его таланта» (с. 15).
То, что Руднева долго занималась «пафосом» литературных произведений, помогло ей «реабилитировать» сентиментализм (над которым нередко насмехались уже современники Карамзина) и особенно его традицию. Может быть, она и преувеличенно, но в общем верно пишет, что «сентиментально-романтические умонастроения, типологически близкие карамзинскому мироотношению, волнообразно возникали в русском обществе и литературе» XIX— XX вв. и актуальны сейчас как антитеза техницизму», «вовлекали в свое движение почти всех ведущих писателей — реалистов: Толстого (“Детство”), Тургенева (“Записки охотника”), Короленко (“Сон Макара”, “Дети подземелья”), Чехова (“Степь”, “Ванька”, “Спать хочется”, “Вишневый сад”), М. Горького (“На дне”), вплоть до А. Солженицына (“Матренин двор”), В. Белова (“Привычное дело”) и иных советских “деревенщиков”» (с. 26). Главным образом акцентируется гуманистический потенциал сентиментальности, но не только в «высоком» смысле: «…вряд ли можно согласиться с Ильиным (считавшим сентиментальность несовместимой с художественностью. — С.К.), что Шмелев постепенно изжил сентиментальность, свойственную его натуре (как и многим художникам — Л. Толстому, М. Горькому, даже В. Маяковскому). Напротив, с возрастом она достигла болезненной экзальтированности: в письмах 1942—46 годов он (вопреки православному аскетизму) сентиментально сакрализует плотскую любовь» (с. 21—22).
В статье «Слезный мотив в произведениях И.С. Шмелева» Руднева справедливо старается разграничить сентиментальность в светской литературе и христианское умиление. Конечно, «православие активно утверждало духовную умиленность, скорбный плач, слезную жалость. Однако в русском секуляризованном искусстве XX века <...> названные состояния не получили полноценного художественного воплощения. Чаще всего они сочетались, порой весьма противоречиво, с религиозной сентиментальностью, как типом эмоциональности, более адекватным индивидуальному художественному творчеству» (с. 145). И все же четко определил сентиментальность лишь учитель Рудневой Г.Н. Поспелов (это одно из немногих его теоретических положений, сохранивших свое значение), на которого можно было бы сослаться. Речь идет о такой чувствительности, которая порождается осознанием чего-то значительного во внешне незначительном. Таковы неточно процитированные в книге слова из «Бедной Лизы»: «И крестьянки чувствовать (вместо “любить”. — С.К.) умеют!» (с. 25, на с. 39 повторено правильно). Иконографический тип «умиление» (младенец нежно прижимается щекой к лику матери) — это совсем другое, тут ни о каком «незначительном» речи быть не может.
Уделено в книге внимание малоизвестному и недооцененному рассказу Шмелева «Рваный барин» (1911), изобилующему всевозможными реминисценциями. «По существу литература стала глубинной темой “Рваного барина”. <…> Следуя принципам “знаньевского” реализма, он (Шмелев. — С.К.) все острее ощущал их недостаточность, использовал опыт импрессионизма и других новейших течений, расширял диапазон творчества. “Рваный барин” — своего рода итог его осмысления русской национальной классики с преимущественным интересом к традиции сентиментализма» (с. 51—52).В«христианской идиллии» — дилогии «Лето Господне», «Богомолье» — символика никогда не переходит в аллегорию, нет рассудочности, дидактизма, риторики. Вместе с тем универсализация идиллического все же создает трудности для художника. «Л. Бородин увидел в повестях Шмелева достоверное “свидетельство реальности православного быта-бытия”, рождающее одновременно “ощущение хрупкости русского православного мира”. Вследствие этого христианская идиллия Шмелева не лишена утопических моментов» (с. 101). Через все его творчество проходит тема детства. Первоначально в эмиграции Шмелев воспринимался как бытописатель и автор детских рассказов. Почти все они «имеют подзаголовок “из рассказа приятеля”. Мастер сказа, писатель создал своеобразный тип повествования (во многом аналогичный толстовскому), в котором структура мемуара, допускающая открытые лирические комментарии повествователя к давно прошедшим событиям, сочетается со сценическим воспроизведением эпизодов далекого прошлого, протекающих как бы в настоящем времени» (с. 109). О построении текстов и их лексике говорится также в статьях «Сказ как памятник национального самосознания (“Няня из Москвы”)» и «Эпистолярный стиль И.С. Шмелева (в письмах к И.А. Ильину и О.А. БредиусСубботиной)». Об эпистолярии писателей литературоведы высказываются вообще нечасто, тем более о стиле писем Шмелева. Он в письмах разными приемами воспроизводит свою разговорную речь. Говорит исследовательница и об их содержании. Прежде всего, она опровергает мнение неосведомленных людей, будто Шмелев и Ильин были абсолютными единомышленниками. В приложении к книге «Литературная критика И.А. Ильина в свете его эстетики. И.С. Шмелев и О.А. БредиусСубботина о личности И.А. Ильина» объективно (а не апологетически, как обычно) оцениваются работы критикафилософа с их достоинствами и недостатками, приводятся иногда весьма нелицеприятные его оценки из переписки Шмелева с самой близкой ему в последние годы женщиной. Во втором приложении — «Образ Чаши как трансисторический культурный символ» — главный символ повести о крепостном художнике вставлен в контекст отечественной литературы XIX—XX вв.
К сожалению, в сборнике немало свидетельств невнимательности и неаккуратности. Слушательница няни из Москвы названа Медыкиной вместо Медынкиной (с. 137), филолог и культуролог В.М. Живов — В.Н. Живовым (с. 60); без номера журнала дана ссылка на статью А.Л. Зорина в «Вестнике Московского университета» за 1980 г. (с. 147) и т.д., и т.п. Непонятно, каким образом стихотворение Тютчева «Чехам от московских славян» (1869) могло сопровождать «золотую чашу, посланную Славянским комитетом в Прагу по случаю 100-летия Яна Гуса» (с. 193), если Гус жил на рубеже XIV—XV вв. Когда нестиховеды вторгаются в область стиховедения, может получиться такая натяжка: «…заглавие “Неупиваемая Чаша” <…> выделяется своей масштабностью, возвышенно-религиозным колоритом, скрытым четырехстопным ямбическим ритмом, напоминающим пушкинского “Пророка” <…>» (с. 53). Пятистопному дактилю миниатюры Бунина «Надпись на чаше» (что неточно: один стих в ней — явный пентаметр: «Душу и сердце живых с темной душою могил», с. 193) с анафорой смело приписан «эффект торжественных ударов колокола», что образует ни много ни мало «духовную вертикаль мира» (с. 194).
Даже содержательную книжку рискованно издавать без редактора.
С.И. Кормилов
Поздняков К.С. Возвращение в Одессу. Проза И.А. Ильфа.

Самара: АНО «Издательство СНЦ», 2018. — 128 с. — 300 экз.
Эту небольшую книгу можно было озаглавить просто: «Возвращение И.А. Ильфа», но автор назвал ее лучше, и в этом названии есть особый смысл. По мнению К.С. Позднякова, Ильф, начав свой путь прозаика с подчеркнуто «одесских» как в дискурсивном, так и в сюжетном плане рассказов, в последние годы жизни возвращается в набросках так и не написанного романа в пространство родного города: вновь возникают характерная интонация, абсурдные имена и фамилии, неожиданные сюжетные повороты. Заглавие книги отсылает к названию одного из очерков Ильфа — к «Путешествию в Одессу». Как образно выразился автор, «круг в творческом путешествии И.А. Ильфа замкнулся» (с. 7).
В воспоминаниях об Ильфе Евгений Петров писал: «Мы работали вместе десять лет. Это очень большой срок. В литературе это целая жизнь. Мне хочется написать роман об этих десяти годах, об Ильфе, о его жизни и смерти, о том, как мы сочиняли вместе, путешествовали, встречались с людьми, о том, как за эти десять лет изменялась наша страна и как мы изменились вместе с ней». В рецензируемой книге ставится противоположная задача: подробно рассмотреть самостоятельное творчество Ильфа, чтобы опровергнуть мнение о произведениях, созданных до тандема с Петровым, как о второстепенных, незначимых. В представлении автора, творчество Ильфа не было подготовкой к настоящему литературному делу. Более того, не умаляя заслуг Петрова в создании совместных с Ильфом произведений, К.С. Поздняков полагает, что главным экспериментатором в дуэте был именно Ильф. Доказательству этой идеи и посвящена монография, написанная увлекательно, с азартом, провоцирующим читателя на самостоятельные размышления. Книга содержит много тонких наблюдений, касающихся поэтики Ильфа. Автор сопоставляет его ранние сочинения с произведениями Бабеля и Зощенко, выявляет в них черты модернистской поэтики, отмечает мифологические и интертекстуальные контексты и пародийно-ироническую функцию реминисценций, показывает влияние поэтики соцреализма на поздние тексты Ильфа и т.д.
В монографии поднимается интересная не только в историко-литературном, но и в теоретическом отношении проблема: как в столкновении стилей, эстетических установок, общественных взглядов рождается текст, синтезирующий в себе элементы двух творческих индивидуальностей, и какой вклад в произведение, созданное в творческом дуэте, вносят тот и другой авторы? Зачастую ни современникам, ни исследователям не удается определить этот вклад. Многое зависит от сходства и различия образа мыслей, вкусов, привычек, художественных предпочтений, от способа творческой работы, характерного для каждого автора. Закономерностей здесь не открыто, может быть, в силу недостаточности литературного материала. В художественной литературе постоянного (регулярного) соавторства почти не было до XIX в. Говоря о нем, обычно приводят одни и те же примеры: Эдмон и Жюль Гонкуры, братья Гримм, братья Аркадий и Георгий Вайнеры, братья Борис и Аркадий Стругацкие… В этом ряду именно Ильф и Петров — почти канонический образец так называемого временного соавторства.
До «Двенадцати стульев» творческие манеры Ильфа и Петрова принципиально различны: для прозы одного характерны бессюжетность, фрагментарность, сочетание лиризма и иронии, для прозы другого — приверженность классической модели повествования, сюжетность и насыщенность диалогами. Наиболее значительные в художественном отношении тексты прозаики создали вдвоем, а все, что выходит за пределы деятельности литературного тандема, не столь существенно. Первое из этих сложившихся в истории литературы представлений К.С. Поздняков уточняет, а второе убедительно опровергает. Каждая из четырех глав его монографии, соответствующая впервые предложенной здесь же периодизации творчества Ильфа, «работает» на обоснование двух принципиально новых историко-литературных положений: во-первых, творчество Ильфа носило оригинальный характер, а во-вторых, именно Ильф был ведущим в знаменитом тандеме.
В книге много места уделено периоду с 1923 по 1924 г., когда Ильф пробует себя в самых разных литературных направлениях и жанрах, экспериментирует с одесским жаргоном, сказовой манерой Зощенко, пишет приключенческий рассказ, использует элементы орнаментальной прозы и авангардного письма. При этом в каждом произведении «повествователь сохранял, хотя и корректировал свою повествовательную манеру, узнаваемое лицо» (с. 119). Впечатляет анализ таких произведений, как «Повелитель евреев», «Антон Половина-на-половину», «Записки провинциала», «Железная дорога» и др. Ильф предстает в них как сложившийся мастер рассказа, совмещающий элементы реалистического и модернистского письма. Рассматривая образы мошенников/плутов в новеллах «Повелитель евреев» и «Принц-металл», К.С. Поздняков доказывает, что прообраз Остапа Бендера «со вполне узнаваемыми поведенческими стратегиями и речевыми манерами» (с. 119) появился именно в рамках самостоятельного творчества писателя. Впервые отмечена связь «Повелителя евреев» со зрелым творчеством Ильфа и Петрова. Рассмотрение ранних опытов Ильфа как своеобразного претекста знаменитой дилогии позволяет уточнить известные комментарии к ней Ю.К. Щеглова. Приведем только один фрагмент, иллюстрирующий аргументацию автора: «В центральном персонаже новеллы, наряду с автобиографическими, отчетливо угадываются черты Остапа Бендера. Сама ситуация напоминает “Ревизора” Гоголя, с той только разницей, что Хлестаков долго не мог понять всей выгоды своего положения, толком не сумел им воспользоваться, играя роль проверяющего не нарочно. Герой-повествователь из новеллы Ильфа действует расчетливо, вполне в духе Бендера: услышав, что его приняли за чекиста, погубившего и расстрелявшего многих, он использует это обстоятельство, заставляя мнительных евреев-мебельщиков исполнять все его желания… Умение Остапа находить общий язык с каждым персонажем, жонглировать речевыми жанрами, выступая в разных ролях, тоже происходит из “Повелителя”» (с. 43).
Выводы К.С. Позднякова убеждают, что основные художественные открытия Ильфа и Петрова основываются на ранних произведениях Ильфа. В четвертой главе, сопоставив соцреалистические опыты соавторов и планы Ильфа из «Записных книжек», автор заключает, что именно в 1930-е гг. начинается постепенное расхождение Ильфа с Петровым — в отличие от предыдущего периода, когда авторы и порознь оставались во многом верны общей манере высказывания. Некоторые фрагменты из «Записных книжек» кажутся набросками к третьему роману, о котором несколько раз сообщали писатели. Остается открытым вопрос: почему же Ильф не смог самостоятельно создать роман? Что этому помешало — обстоятельства личной судьбы, общая ситуация в стране или неспособность написать роман вне привычного сотворчества?
Монография К.С. Позднякова отличается некоторой тезисностью, в ней не хватает, пожалуй, историко-литературного контекста. Зато этого недостатка лишена его докторская диссертация «Творчество Ильи Ильфа и его литературный круг: формирование креативного класса», в преддверии которой и была опубликована монография.
Отдавая должное писательскому таланту Ильфа, К.С. Поздняков в заключение подчеркивает, что «заслуги Е.П. Петрова ни в коем случае не ставятся под сомнение: думается, что логичное продолжение данной книги — это столь же тщательный разбор самостоятельного творчества младшего брата В.П. Катаева» (с. 120). Остается только ждать этого продолжения.
В.Н. Крылов
Haber Erika Oz behind the Iron Curtain: Aleksandr Volkov and His Magic Land Series.
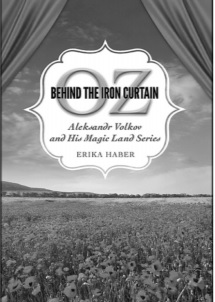
Jackson: University Press of Mississippi, 2017. — XVII, 259 p.
Как утверждает Линда Хатчеон в своей «Теории адаптации» (Hutcheon L. A Theory of Adaptation. L.; N.Y., 2006), «для создателей адаптаций на протяжении многих веков всегда было трюизмом — искусство основано на другом искусстве, истории рождены из других историй». И, возможно, одним из лучших примеров этого служит «Чудесный волшебник из страны Оз» Л.Ф. Баума, адаптированный А.Н. Волковым и ставший одной из любимых книг советских детей, «Волшебником Изумрудного города». Книги Волкова стали известны англоязычным читателям сравнительно недавно, но монография о «Волшебной стране» уже появилась.
Для этого потребовались немалые усилия — Э. Хабер работала не только в архиве Баума, но и в архивах Волкова, в Томске, в музее писателя; она изучила довольно обширную (и прямо скажем, не всегда занимательную) литературу о писателях и сделала несколько интересных выводов. Исследования литературной сказки не были изначально специальностью автора, и с этим связаны некоторые пробелы в работе… Но обо всем по порядку.
Книга строится по принципу сравнительного анализа; главы о Бауме и Волкове и их книгах чередуются, чтобы в финале сойтись в единой коде, посвященной современному восприятию двух книжных серий. Обе истории Волшебной страны рассматриваются в контексте формирования детской литературы в США и СССР. Принципиально важны для Э. Хабер два вопроса: «Что позволило истории Баума, первой американской волшебной сказке, преодолеть культурные преграды и завоевать популярность за “железным занавесом”? Как и почему Волков сумел не только вписать каноническую американскую историю в систему советской детской литературы, но и тронуть сердца юных читателей?» (c. 12). Конечно, попытки продемонстрировать «культурное превосходство» важны, но не стоит их преувеличивать; именно поэтому первый вопрос и остается практически без ответа — текст Волкова обособляется от источника, имя Баума практически не упоминается, а когда сказки Баума издаются на русском — они не вызывают интереса (правда, новое роскошное издание сказок о стране Оз пользуется стабильной популярностью у коллекционеров). Политизация книг о стране Оз вообще не занимает значительного места в работе; упоминания о холодной войне неизменно связаны с историей формирования советской детской литературы, а освоение западных образцов рассматривается как часть последовательной стратегии «заимствования и адаптации».
Первые две главы, посвященные биографиям Баума и Волкова, наименее оригинальны. Э. Хабер отмечает немало сходств в их «личных и литературных историях», но крайне редко делает из этих сходств выводы. Например, оба писателя увлекались столярным делом. Отсюда появление у Баума и у Волкова «деревянных» персонажей, причем в повести об Урфине Джюсе история деревянных солдат может быть интерпретирована весьма неоднозначно; подобных неоднозначных интерпретаций в текстах Баума все-таки нет. Но Э. Хабер куда больше занимает история литературно-критической оценки сказок — вернее, недооценки. Едва ли не единственную рецензию на первое издание «Волшебника Изумрудного города» пишет 19-летний Ю. Нагибин, весьма низко оценивший пересказ и предлагавший вместо этого напечатать точный перевод сказки Баума. Но с подобной же недооценкой столкнулся и Баум — поначалу критики без особого энтузиазма отнеслись к его книге.
В третьей главе Э. Хабер предлагает некую теоретическую модель анализа; перед нами образец «социальной компаративистики» — обстоятельства появления текстов детерминируют и восприятие, и дальнейшую эволюцию циклов. Особенно подробно рассматриваются особенности адаптации западной литературы в России и причины востребованности отдельных переделок детских произведений. Здесь же затрагиваются и жанровые проблемы. Баум назвал свою первую книгу «современной сказкой», но Э. Хабер считает, что это произведение гораздо ближе к жанру фэнтези: здесь движение сюжета полностью определяется развитием характеров, в отличие от сказок. И фон повествования существенно отличается от «некоторого царства, некоторого государства». Впрочем, анализ текстов Баума (и Волкова) в контексте фэнтези имеет уже немалую историю (Э. Хабер ссылается на работы Джона Роу Таунсенда). В целом же ее представления об эволюции сказочного жанра не слишком оригинальны; ключевое место в них занимает поворот от Просвещения к романтизму: «Романтики находили вдохновение в сказках, потому что народное творчество, с которым сказочные сюжеты тесно связаны, рождено мудростью и опытом простых людей» (c. 118). Однако, в отличие от произведений Баума, «современные сказки», например, Джорджа Макдональда ближе к социальной сатире или религиозной аллегории, что объясняет их забвение и невостребованность в дальнейшем. Достаточно стереотипно и представление о современном состоянии детской литературы, особенно в России: «Русское общество пребывает в движении, то же происходит и с детской литературой <...>. Русские дети получают свободный доступ к информации через Интернет <…>. Политики, издатели, учителя и библиотекари уже не могут определять направление детского чтения» (c. 24).
Наибольший интерес представляют четвертая и пятая главы, посвященные истории публикации книг и эволюции циклов Баума и Волкова. Причиной низкой оценки циклов становится непонимание в случае Баума отсутствия практик детского книгоиздания и абсолютизация посреднической роли библиотекарей, в случае Волкова — игнорирование канонов «государственного задания». Огромную роль в росте популярности и изменении отношения к книгам Баума и Волкова сыграли гениальные иллюстраторы. К сожалению, рассказ о Л. Владимирском, иллюстраторе «Волшебника...», отличается фрагментарностью. Не говорится, в частности, о том, что именно Владимирский завершил последнюю повесть Волкова, «Тайна заброшенного замка», опубликованную через несколько лет после смерти писателя.
Зато дан детальный разбор двух редакций повести «Волшебник Изумрудного города» (1939 и 1959). Волков пытался сделать историю Баума более динамичной и логичной; место вставных глав занимают приключенческие эпизоды, а мораль чаще воплощается не в словах, а в действиях героев; переработка повести в «оттепельные» годы ведется именно в этом направлении.
Пытаясь провести границы между переводом, адаптацией и переработкой, Э. Хабер демонстрирует сложность этой проблемы применительно к детской литературе. Еще Андре Лефевр определил перевод как форму переработки; Волков не только переименовывает персонажей и добавляет новые эпизоды, он изменяет «логику, эмоции и мотивацию» персонажей, создавая, по сути, собственный текст. Пересмотр сказки Баума оказывается «не столько идеологическим, сколько педагогическим»; наиболее наглядно это раскрывается на примере истории Страшилы, который вместо комического персонажа становится «идеальным воплощением персонажа-ученика»; и дети-читатели начинают учиться вместе с ним. В версии 1959 г. меняется и принцип описания путешествия: каждая глава — не новый эпизод, а новый день, и это тоже способствует динамике повествования.
Любопытны и параллели между продолжениями «Волшебника Изумрудного города» и сказками Баума. Их довольно много, однако Э. Хабер не находит новых сближений, а перечисляет уже отмеченные. Она проходит мимо очень интересной проблемы, связанной с последующими повестями Волкова. Они довольно близки по структуре. Первая треть «Урфина Джюса…» — биография злодея, первая треть «Семи подземных королей» — описание королевства. На смену сказочному нарративу приходит фэнтезийный, требующий все более подробного описания мира и героя. В четвертой книге описание посвящено сугубо социальным темам. Только в пятой и шестой книгах цикла эта модель перестает работать, так как Волков вводит «актуальные» темы в свои повествования (появление инопланетян в шестой повести — не столько попытка создать научно-фантастическое произведение, сколько отклик на уфологическую истерию, охватывающую общество в 1970-х).
В шестой главе рассматриваются обстоятельства знакомства американской публики с книгами Волкова, речь идет о проблемах авторского права и перевода, а также о многочисленных фанфиках (их авторов Э. Хабер не вполне справедливо называет эпигонами; разбирая сказки С. Сухинова, она чуть далее приходит к выводу об их оригинальности). Обзор предложен весьма интересный, но, к сожалению, обстоятельного анализа не получается. Любопытно отмечать парадоксы восприятия сказок об Изумрудном городе: в рассматриваемых в монографии критических статьях 1990—2000-х речь заходит то об «основах национального характера», то о практиках «нейро-лингвистического доминирования». Понятно, что это запоздалый протест против присоединенияи текстов Волкова к пантеону советской литературы, но все же подобная амбивалентность цикла может натолкнуть на разные любопытные выводы.
По мере чтения работы начинаешь жалеть об упущенных автором возможностях. Так, Э. Хабер не уделяет внимания параллелям между сказочными циклами и прочим творчеством авторов (у Волкова — исторические повести, у Баума — повести детские и даже фантастический роман для взрослых). Иногда ее суждения отличаются чрезмерным схематизмом: «Популярность и новизна никогда не способствовали публикации в Советской России, где книгоиздание оставалось политизированным, чувствительным к запросам времени и подцензурным» (c. 24). Есть забавные ошибки — «саблезубые тигры» Волкова превращаются в «Sabelnye-tigri». Но в целом книга позволяет понять особенность адаптации, проделанной Волковым. «Волшебник Изумрудного города» отличается и от «Айболита» К. Чуковского, и от «Золотого ключика» А. Толстого. Это — авантюрная повесть, лишенная политических и литературных подтекстов, и с жанровой трансформацией связаны парадоксы восприятия цикла и его исключительная популярность и в советское, и в постсоветское время. Несоменно, работа Э. Хабер позволяет продолжить обсуждение многих тем, связанных с книгами Волкова, — уже на новом уровне и, надеемся, небезрезультатно.
Александр Сорочан
Шталь Е.Н. Венедикт Ерофеев: писатель и его окружение.

М.: АИРО-XXI, 2019. — 240 с. — 300 экз.
Имя Евгения Шталя хорошо известно специалистам по Ерофееву, а его вклад в изучение биографии и популяризацию творчества писателя трудно переоценить. Усилиями Шталя в городе Кировске Мурманской области — родном городе писателя — был открыт музей Ерофеева, а на здании школы, в которой он учился, была установлена мемориальная доска. Работая над формированием фондов музея, Шталь собрал огромное количество документов и разного рода артефактов, связанных с Ерофеевым, записал десятки интервью, сделал ряд важных архивных находок. Результатом этой работы стало множество публикаций в периодических изданиях (библиографический список приведен в конце книги) и подготовленная совместно с Валерием Берлиным «Летопись жизни и творчества Венедикта Ерофеева» — первая и до недавнего времени единственная биография Ерофеева, впрочем, не лишенная существенных недостатков. (В 2018 г. вышла новая биография — книга О. Лекманова, М. Свердлова и И. Симановского «Венедикт Ерофеев: посторонний». См. рец. в: НЛО. 2019. № 155. С. 403—407.)
Книга «Венедикт Ерофеев: писатель и его окружение» неоднородна по составу. Помимо 160 биографических справок о знакомых Ерофеева, автор включил в нее несколько статей, важную архивную публикацию и даже собственные посвященные Ерофееву стихи — своего рода поэтический оммаж любимому писателю. Ценность этих материалов также неодинакова. Обнародование личного дела Ерофеева из детского дома, безусловно, будет полезно биографам, однако статьи автора (и, будем откровенны, стихи) не кажутся особенно интересными и значимыми. Другое дело — подготовленный Шталем справочник, работа важная и ценная, на которой хотелось бы остановиться подробнее.
Шталь по крупицам собрал информацию если не обязательную, то как минимум небесполезную, найти которую самостоятельно было бы трудно, а в некоторых случаях едва ли возможно. В каком году родился друг Ерофеева и персонаж «Москвы — Петушков» Борис Сорокин? Какое отчество у еще одного ерофеевского друга, Игоря Авдиева? Или другой пример. В эссе о Василии Розанове Ерофеев упоминает свою школьную учительницу: «Я слышал еще в ранней юности от нашей наставницы Софии Соломоновны Гордо...» Комментатор, желая объяснить это место, столкнется с трудностями: в разных источниках фамилия учительницы либо Гордо, либо Неустроева, имя — либо Сарра, либо Софья, а отчество везде — Захаровна. Справочник Шталя проясняет эту путаницу: учительницу звали Сарра Захаровна Гордо, но она предпочитала имя Софья (не София), а Неустроева — это фамилия по мужу. Воспользовавшись справочником, комментатор также может сделать вывод, что другую упомянутую в том же эссе учительницу, классного руководителя Беллу Савнер, Ерофеев, по всей видимости, выдумал. По крайней мере, статьи о ней у Шталя нет, а классным руководителем названа Антонина Прокофьевна Носкова.
Справочник позволяет сделать и некоторые мелкие открытия. Судя по записным книжкам, в 1966 г. Ерофеев читает трилогию «Царство зверя» Мережковского; в середине 1960-х это не самое очевидное и, вероятно, не самое доступное чтение. А в статье о Валерии Маслове, владимирском знакомом Ерофеева, сообщается, что он в 1966 г. был отчислен из Владимирского пединститута за академическую неуспеваемость и кражу из библиотеки двух томов Мережковского, — весьма вероятно, что именно эти выкраденные из библиотеки тома читал в том же году Ерофеев.
Но наибольшую пользу справочник Шталя принесет будущему комментатору «Записок психопата», первого и едва ли не самого загадочного произведения Ерофеева. В этом беллетризованном дневнике, в котором смешаны вымысел и реальность, упоминаются десятки разных людей. И если сокурсников Ерофеева по МГУ идентифицировать сравнительно легко (существует множество воспоминаний и прочих материалов), то о кировских его знакомых узнать что-либо гораздо сложнее. Шталь, сам житель Кировска, смог найти информацию об одноклассниках писателя, его учителях и соседях, опираясь не только на архивные материалы, но и на устные рассказы. Эти сведения позволяют хоть в какой-то мере отделить в «Записках психопата» вымысел от реальности. Выясняется, что едва ли не все упоминаемые Ерофеевым люди действительно существовали, но Ерофеев не только часто путает (сознательно или нет) их имена, но и, по всей видимости, сильно искажает их реальный облик. Самый красноречивый пример — это, вероятно, Лидия Ворошнина, к которой герой «Записок» испытывает нечто вроде влюбленности, но описывает ее как вечно пьяную и нарушающую все возможные нормы приличия уголовницу. В действительности, как следует из подготовленной Шталем биографической справки, Ворошнина, закончив школу одновременно с Ерофеевым, в том же году поступила в медицинское училище в Ленинграде, а закончив его, вернулась в Кировск, где стала работать медсестрой. Никаких сведений о ее судимости нет, а информаторы Шталя вспоминают о ней как об «очень симпатичной девочке, скромной». Добытые Шталем сведения могут в будущем стать ключом, который позволит прояснить такой темный текст, как «Записки психопата», и в этом смысле их значение огромно.
Справочник Шталя не лишен недостатков. Пожалуй, главный из них — недостаточная структурированность и стилистическая неоднородность статей (автор как будто просто вываливает на читателя все, что успел записать), а также излишняя подробность: даже специалисту едва ли нужно знать, например, кем сегодня работает сын бывшей учительницы Ерофеева. Впрочем, и этот недостаток может стать преимуществом, если посмотреть на него с другой стороны. Перед нами по-своему уникальный материал: краткие жизнеописания не знаменитых, а совершенно обычных людей, к тому же чем-то связанных — местом жительства (Кировск или Владимир), учебы (кировская средняя школа, детский дом или владимирский пединститут) или работы (все те же школа и детский дом — в случае с воспитателями и учителями Ерофеева). Такое чтение любопытно само по себе: можно долго и с увлечением сравнивать биографии, поражаться их сходству и различиям или даже следить за жизнью нескольких поколений одной семьи. Наверное, эти материалы могут пригодиться не только специалисту-ерофееведу. По этим жизнеописаниям можно, скажем, составить социальный портрет ученика обычной средней школы в небольшом городе в послевоенный период, или учителя в той же школе, или студента провинциального пединститута. Многие сведения, очевидно, нельзя найти ни в одном архиве, поскольку Шталь получил их в устных интервью, и тем ценнее эти краткие жизнеописания.
Справочник Шталя — фундаментальный труд, который пригодится еще не одному поколению исследователей, а для биографа и комментатора, вероятно, станет настольной книгой. Автор проделал большую работу, но, пожалуй, главная его заслуга в другом. Он сделал то, что, кроме него, вероятно, никто сделать не смог бы. Чтобы подготовить такой справочник, нужно жить в Кировске, профессионально заниматься Ерофеевым и обладать работоспособностью, энергией и немалой долей идеализма, необходимыми для того, чтобы годами в одиночку тянуть музей, рыться в архивах, разговаривать с людьми и собирать материалы. Сочетание вполне уникальное, и большая удача, что такой человек нашелся.
Александр Агапов
Степанова М.М. Против нелюбви: [эссе].
М.: АСТ, 2019. — 288 с. — 3000 экз. — (Эксклюзивное мнение).
Новая книга Марии Степановой составлена из текстов, публиковавшихся в свое время в еженедельнике «Коммерсантъ Weekend» и по большей части входивших в другие ее сборники. Но, кажется, здесь имеет значение не столько состав и выбор, сколько порядок текстов, — по мере чтения они образуют сюжетные рифмы, приобретают дополнительные связи и смыслы (так еще бывает со стихами).
Всего в книге 15 эссе и 11 героев, и согласно издательской аннотации, это «знаковые <…> фигуры последних ста лет русской и мировой культуры». Речь, главным образом, о стихах, книгах и «людях литературы» — от Александра Блока до Григория Дашевского и от Сельмы Лагерлеф до Донны Тартт. Владимир Высоцкий определен здесь как поэт, а единственное исключение — Майкл Джексон — прочитан через отсылки к Оскару Уайльду. Литература, словесность, собственно текст и есть главный герой этой книги, и Мария Степанова «читает» своих героев — их жизнь, их книги, их истории именно как текст, который нужно узнать, понять и определить его место в сюжете культурной истории.

В этом смысле характерно ее признание в недавнем интервью сетевому журналу «ЛиTERRAтура» (2019. № 147): «По-моему, нет особой разницы между текстом и жизнью, текстом и нетекстом <…>. Жизненная ткань ведь как будто нарочно имеет особую вязкость, дающую возможность уклониться от однозначности — ослышаться, недопонять, пропустить свою остановку. <…> Я не очень-то признаю классическое разделение поэтического хозяйства на dichtung и wahrheit, — оно вроде как настаивает на существовании изнанки, вечного “а на самом-то деле он не это, а то”, скажем, в стихах храбрец, а в бою струсил. Или наоборот, в стихах вакхант, в жизни трезвенник. Да какое мне дело до того, сколько и у кого занял Введенский, как вел себя на допросах Мандельштам? Та правда, та защита, та работа (и тот протест), которые доступны автору, являют себя буквами. Все остальное любопытно, но вполне второстепенно».
По сути, перед нами всякий раз история текста — будь то стихи, книга, дневник, жизнь автора этих стихов или этого дневника: все это единая сюжетная ткань, и стихи приводят к другим стихам, затем — к реальности, а реальность — снова к стихам. Первое эссе («Позавчера сегодня») посвящено обстоятельствам публикации блоковского стихотворения «Петроградское небо мутилось дождем». Блок понимал эти стихи как «газетные», он отдал их в кадетскую «Речь», там их не приняли, — Степанова полагает, что дело в контексте — «Петроградское небо» шло в паре с «Грешить бесстыдно, беспробудно…», где Россию приходилось любить «с оговорками». Издателям в тот момент все это показалось недостаточно патриотичным: «…от военного текста теперь требовалась полная однозначность» (с. 9). Это попытка прочесть сегодня стихи, написанные в 1914-м, — прочесть их как «современную поэзию» столетней давности, т.е. в реальности душного августа, Петергофского вокзала, в контексте военных стихов Мандельштама и Цветаевой. Но прежде всего, это попытка «разговора о сейчас», опыт «ретроспекции», позволяющий уйти от «готовых форм» языка 2014-го и приблизиться к языку, на котором «история говорит с человеком».
Всего в этом сборнике три статьи о Блоке и «актуальной поэзии». О первой уже шла речь. Вторая («Поэма без автора») — о «Двенадцати», т.е. опятьтаки о нахождении языка (или «гула»), которым говорят «на сквозняке истории» улица и стихия. Степанова цитирует здесь Григория Дашевского: «...последовательная бесчеловечность, доведенная наконец до логического предела — до исчезновения из собственного текста» (с. 170). Наконец, третья статья («Предполагая жить») открывается цитатой из блоковского письма матери из Венеции весной 1909-го, но Блок и здесь — лишь повод для разговора о настоящем времени, о «здесь и сейчас».
Если говорить о сюжете этого сборника, то упоминание Блока здесь всякий раз — своего рода триггер, сигнал, запускающий тему актуальной поэзии и ее языка. Но есть еще несколько тем, которые, так или иначе, можно выделить. Это собранные в начале книги «свидетельские показания» — письма, дневники, мемуары, в случае Сьюзен Зонтаг речь еще и о фотографиях, — перед нами, по сути, «опыт чтения» и понимания героя, его личной истории и его места в Большой истории через так называемые «человеческие документы». При этом Степанова действительно не разделяет dichtung и wahrheit, т.е. не проделывает со «свидетельскими показаниями» привычных в этом случае аналитических операций, не задается вопросом, — что тут правда и как на самом деле? Иными словами, она занимается не деконструкцией, но реконструкцией малой истории на фоне большой, будь то дневники Любови Шапориной, письма Цветаевой или мемуары Алисы Порет. Впрочем, здесь есть свои проговорки и внутренние рифмы. Так, представляя «Морбакку» Сельмы Лагерлеф, Степанова предупреждает: «Мемуарам Лагерлеф можно верить: они принадлежат временам, когда повествование еще могло идти уверенной поступью, не оглядываясь по сторонам. Ее век — золотой, <…> ее книги написаны с постоянной надеждой на лучшее, то есть на прошлое». И тут же неожиданно поминает Цветаеву, для которой «бывшее всегда оказывалось неизмеримо родней выжившего, а мертвые — единственными, кто не разочаровывал» (с. 99).
И тут следует упомянуть еще один важный цикл — посмертные оммажи. Открывает некрологический цикл парадоксальная во всех смыслах история Майкла Джексона, медийного идола, воплотившего в себе все мечты и все мифы своего века, желавшего невозможного и пытавшегося достичь этого невозможного со всей настойчивостью и последовательностью. За посмертной историей Майкла Джексона — «черного блейковского мальчика», Питера Пена, логично следует «Щегол» Донны Тартт, классический «английский» («диккенсовский») роман о злоключениях ребенка в мире взрослых.
Но прежде всего нужно сказать о рецензии на последний сборник Григория Дашевского «О смерти и немного до»: название затем поясняется — «…Г.Д. [сказал однажды], что всегда пишет о смерти и немного до» (с. 198). Этот опыт чтения, наверное, с самого что ни есть близкого расстояния, при том что Степанова специально оговаривает «особенное свойство площадки-дистанции», на которой находился поэт: это место холодное и пустое, «как и положено зоне особого рода ясности» (с. 222). И, по сути, это попытка определения «новой поэзии», у истоков которой стоял Дашевский: именно «холод разобщения» он «считал условием начала новой политики и новой поэзии»: «Нет уже никаких цитат: никто не читал того же, что ты; а если и читал, то это вас не сближает» (с. 223).
А еще здесь есть рассуждение о судьбе наследия Зебальда, хотя это отчасти отсылка все к тем же «свидетельским показаниям», коль скоро основной жанр и настоящий предмет рефлексии — документальный роман. Но в ряду «посмертных текстов» это эссе оказывается — в силу свойства «площадки-дистанции» — «с той стороны». Здесь статья, написанная на 30-летие смерти Высоцкого — советского сказителя и «сказочного героя», но еще — «Вергилия советского ада» (Степанова убедительно показывает это, характерное для его стихов, все убыстряющееся движение по кругу и по кругам).
Последний текст сборника, собственно давший ему название — «Против нелюбви», объединяет обе темы: речь о природе нон-фикшн — тех самых посмертных «свидетельских показаний», о неизбывном желании публики узнать «тайную правду», ту самую wahrheit без dichtung, «увидеть героя в халате, без халата, без галстука, без штанов», убедиться, наконец, что он мал и мерзок как мы. Страстная инвектива, направленная против «мусорных мемуаров», призвана объяснить настоящую задачу этого собрания статей, написанных в разное время. Если попытаться определить их жанр и метод, то это, прежде всего, рефлексии о том, как, с какой «площадки-дистанции» можно и должно читать чужую жизнь-текст, и — чудесный образец такого прочтения.
И. Булкина
Беллос Д. Что за рыбка в вашем ухе?: Удивительные приключения перевода / Пер. с англ. Н. Шаховой.
М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2019. — 416 с. — 4000 экз.
Название книги отсылает к роману Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», где человеку, чтобы понимать любой инопланетный язык, нужно было запустить в ухо вавилонскую рыбку. Название также намекает на феноменологический подход: перевод есть то, что субъективно проявлено, в этом смысле сколько людей — столько и переводов. Книга Беллоса не учит переводить, но занимательно повествует о философии, психолингвистике, статистике и прочих аспектах перевода как процесса, как живой, проницаемой, динамичной границы контакта, влияющей на контактирующие языки. Автор ставит целью разобраться, что такое перевод и чем он не является, чем на самом деле занимаются переводчики, сколько разновидностей перевода существует и что перевод говорит о прошлом и настоящем человечества, как он связан с использованием языка и представлениями о нем.

Беллос начинает с парадоксального утверждения, что без перевода теоретически можно было бы обойтись, если выучить все нужные языки, или всем выучить один язык-посредник, или забаррикадироваться от внешнего мира, как некогда Албания. Все эти приемы в истории так или иначе опробованы, но они имеют ограничения и не отвечают современным запросам человечества.
Исходя из этимологии термина, перевод — это перенос значения, смысла высказывания, из одного языка в другой, через условную границу между языками. Но даже это понимание приходится уточнять, потому что в японском языке, например, есть два десятка слов, обозначающих «перевод», — в зависимости от его качества, назначения, новизны, принадлежности и так далее. Беллос, кстати, противится расширительному пониманию перевода, когда этим словом называют любую преобразующую деятельность, например театральную постановку, которую тоже объявляют переводом, то есть переносом литературного текста в мультимодальную сценическую среду.
Все, что можно выразить на одном языке, можно перевести на другой, утверждает автор, ибо непереводимо только невыразимое. Это касается и поэзии, вопреки расхожему мнению, будто поэзия есть то, что теряется в переводе. На примере короткого китайского стихотворения и одиннадцати вариантов его перевода в разных формах (вариантов «подгонки по фигуре») Беллос доказывает, что стихотворение «можно передать с сохранением и его смысла, и его изящества на языке, совершенно отличном от языка оригинала» (с. 154). Автор упоминает Набокова, который с гневом отвергал попытки переводить «Евгения Онегина» рифмованным стихом. Оказывается, Набоков перевел несколько строф «Онегина» в рифму, но, по смелому предположению Беллоса, понял, что он не Пушкин, и ступил на путь дословного перевода из желания скрыть этот обидный для него факт, а вовсе не из соображений теории и практики перевода.
К категории непереводимых текстов можно было бы отнести законы — в силу герметичности юридического языка, но юридических текстов в мире переводится намного больше, чем художественной литературы. Переводчик в международных структурах ЕС — это юрист-переводчик, работающий «с правом как с язы- ком и с языком как с правом» (с. 274). То, что должно быть переведено, будет переведено, если люди без этого не смогут обойтись. «Перевод — это волевой акт», — заключает автор, причем это акт, приобретающий юридическую силу. В этом контексте особенно любопытна глава, посвященная обеспечению перевода на Нюрнбергском процессе, давшем начало практике конференц-перевода.
Перевод — это противоположность империи. Так пишет Беллос в главе, где он рассуждает о доминирующих и подчиненных языках и, соответственно, о переводах «вверх» и «вниз» (то есть на язык более и менее «престижный»). С латыни, языка Римской империи, не было никакого смысла переводить на языки народов Европы и Средиземноморья — людям приходилось учить латынь, которая открывала путь к карьере. На статус языка-империалиста, казалось бы, сегодня претендует английский, но и его нельзя назвать в полном смысле доминирующим, судя по огромному количеству переводов с него. Носителей английского в мире меньше, чем его пользователей, в этом смысле он, конечно, важнейший и популярнейший lingua franca. Вопрос о причинах такого положения дел автор оставляет открытым, уклончиво предполагая, что в науке, например, английский язык пользуется статусом lingua franca не потому, что лучше других к этому приспособлен, а потому, что «его ничто пока не вывело из игры», как это случилось с немецким после политического краха его носителей или с русским после утраты Россией лидерства в науке.
Перевод — это еще и некий усредненный диалект, устремленный к нормализованному, стандартному языку аудитории, независимо от особенностей языка носителей. В случае с английским получается «английский минус», «транглиш», «центристская версия английского», лишенная региональных признаков. Из-за тенденции более строго, чем в оригинале, следовать норме целевого языка «при переводе регистр и уровень оригинального текста всегда на пару пунктов повышается. <…> переводчики инстинктивно избегают обвинений в том, что они не очень грамотно пишут на целевом языке» (с. 227).
В книге много занимательной информации о практике перевода. Беллос объясняет, как устроен синхронный перевод в ООН и как обеспечивается равноправие языков в наднациональных структурах Евросоюза; пишет об успехах и ограничениях машинного перевода и о том, как работает «Гугл-переводчик» (чисто статистически, за счет поиска в интернете прецедентов); демонстрирует, как переводчики сохраняют иностранный колорит исходного текста. Автор приводит немало курьезных историй, в частности о том, как в СССР изобретали национальных поэтов: «...казахского народного певца Джабаева вынудили согласиться на формальное авторство патриотических стихов, которые штамповала на русском языке целая бригада литераторов, выдававшая свои творения за переводы с казахского» (с. 240).
Языковые курьезы происходят и в результате культурной подстановки, применяемой для перевода отсутствующих в языке понятий: «“Белый как снег” в тексте Библии при переводе может превратиться в “белый, как перья какаду” в языках народов, никогда не видевших снега, или в “белый, как коробочка хлопка” в некоторых языках Южной Америки» (с. 205). Перевод может изменить язык, а вместе с ним и способ мышления его носителей, как это произошло с языком босави (Папуа — Новая Гвинея), в котором до перевода на него Библии не было разницы между мыслями и словами.
В заключительной главе Беллос делает неожиданный вывод: речь возникла не как средство коммуникации, а лишь как дополнительный ее канал. Главное же назначение речи — устанавливать отношение с другими людьми, и в этом она сходна с грумингом у животных. Универсальное свойство речи и языка — служить средством идентификации. «Каждый язык говорит слушателю, кто вы, откуда пришли и к какому обществу принадлежите. <…> Человеческая речь, скорее всего, исходно предназначалась для демонстрации различий, а не общности» (с. 388—389). Именно поэтому,пишет автор,перевод — первый шаг к цивилизации. С другой стороны, «этническая, самоидентифицирующая составляющая высказывания» и является непереводимой, потому что другая формулировка создает другую личность. В переводе теряется принадлежность к сообществу. «Эту функцию языка — формирование сообщества — перевод просто не способен выполнить» (с. 391).
В конечном итоге автор уподобляет главную идею перевода идее фильма «Аватар»: мы все разные и под влиянием своих языков по-разному видим мир, но мы все одинаковые, потому что одинаково чувствуем и можем достичь общего понимания. «Перевод — это иное название человеческого бытия» (с. 375).
Сергей Гогин