Журнальный клуб Интелрос » НЛО » №165, 2020
Блатт Б.
Любимое слово Набокова — лиловый: что может рассказать статистика о наших любимых авторах.
М.: Эксмо, 2019. — 288 с. — 3000 экз.

Методы, основанные на статистике, применяются в литературоведении уже почти столетие, давно есть необходимость в популярном изложении этих методов и их результатов. Американский ученый Бен Блатт делает это доступным языком, не прибегая к чрезмерным упрощениям — книга полна уточнений и оговорок. В отличие от ряда авторов, применяющих модный метод где попало, Блатт хорошо сознает его границы и использует его там, где он может дать результаты и обеспечивает доказательность. Например, при установлении автора текста. В случае работы соавторов статистика показывает, к кому из них ближе получившееся (и оказывается, что в бестселлерах, написанных более именитым и менее именитым соавторами, доля первого порой ненамного больше, чем фамилия на обложке. Ироничным комментарием к коммерческой литературе является и констатация того, что количество слов в последующих книгах имеющих успех авторов все более увеличивается по сравнению с их первыми книгами. «Раздувание книг — реальность» (с. 212).
Но уже в чуть более сложных случаях возникают сложные методические вопросы. Например, что именно следует рассматривать как единицу подсчета? Блатт анализирует совет Хемингуэя по возможности избегать наречий. Вначале обнаруживается, что частота их использования у Хемингуэя мало отличается от других авторов, в эротическом бестселлере Э.Л. Джеймс их может быть и значительно меньше. Не рассуждающий поклонник метода сделал бы «сенсационный» вывод, что Хемингуэй не следовал собственным советам. Блатт идет дальше и обращается к Чаку Паланику, предлагающему избегать «глупых наречий типа сонно, раздраженно, грустно», которые «делают за читателя всю работу, сразу раскрывая, о чем он должен думать» (с. 21). В английском это наречия, оканчивающиеся на суффикс -ly, и у Хемингуэя их почти вдвое больше, чем в бестселлере Э.Л. Джеймс (а у сетевых авторов-непрофессионалов таких наречий еще в полтора раза больше). Характерно и сравнение одних произведений автора с другими — в книгах Хемингуэя, которые считаются лучшими, частота наречий на -ly в полтора раза меньше его среднего уровня. «В “Лолите” Набокова больше таких наречий, чем в любом другом из его восьми английских романов» (с. 64) — еще одно подтверждение того, что «Лолита» была написана не без мыслей о рынке. Но интересно, что массовые оценки книг на сайте «Goodreads» также смещены в сторону книг с меньшим количеством этих наречий — получается, что и массовый читатель не слишком любит, когда ему очень подсказывают.
Сравнение произведений одного автора дает материалы для вопроса о постоянстве стиля автора. Дж.К. Роулинг написала не только романы о Гарри Поттере, но и несколько детективов под псевдонимом Роберт Гэлбрейт — статистика однозначно указывает на нее как на их автора, таким образом, автор сохраняет стиль при смене жанра. Интересно сравнение авторов-любителей и профессионалов. У первых восклицательный знак используется вчетверо чаще — не слишком умелый «писатель пытается сделать предложение более эмоциональным только за счет знаков» (с. 107). Однако относительно других советов профессионалов — избегать «мыслительных» глаголов (Паланик) или слова «не» («читатель желает знать, что же произошло, а не что не произошло», — Э.Б. Уайт) — статистика не подтверждает существенных отличий для авторов из интернета и классики.
Немало об авторе говорит частота устойчивых выражений-клише в его текстах. У Тома Вулфа их 145 на 100 000 слов, у Вирджинии Вулф — 62 (с. 178). У Д.Г. Лоуренса на 100 000 слов — 22 сравнения с животными, в то время как у Набокова их 4, у Джойса 3. Видимо, это ощутимый аргумент в споре о натурализме Лоуренса. И, конечно, любимые слова. Частота слова «лиловый» у Набокова в 44 раза больше, чем в Историческом корпусе американского английского языка (с. 190). У Набокова на 100 000 слов 460, обозначающих цвета, по сравнению с 115 в Историческом корпусе — что подтверждает интуитивное предположение о его яркости и предметности.
Статистика позволяет анализировать гендерные различия авторов. Они проявляются не только на уровне тем, но в простых и служебных словах вроде мужских «некий», «вокруг», «тот» или женских «мы», «больше», «если». «Мужчины чаще используют “информационный” язык и говорят об объектах, тогда как женщины используют эмоционально “вовлеченный” язык и говорят об отношениях» (с. 56). В классических книгах, написанных женщинами, частота местоимений «он» и «она» в среднем почти одинакова, в книгах, где авторы — мужчины, частота «он» больше почти вдвое. То есть мужчины и писали в основном о мужчинах. Несмотря на весь феминизм, сходная ситуация в современных бестселлерах. Даже если героиня книги — женщина, она существует в «мужском мире» (с. 61—62). Интересно проследить восприятие противоположного пола. Глагол «перебить» используется с местоимением «она» авторами-мужчинами более чем втрое чаще, чем с местоимением «он», и вдвое чаще, чем связывают этот глагол с местоимением «он» женщины (с. 70). Так что перебивают в основном лица противоположного пола, но женщины в восприятии мужчин — значительно чаще. А вот глагол «ненавидеть» используется в полтора раза чаще для лица одного с автором пола. Глагол «целовать» приписывается авторами-мужчинами обоим полам почти одинаково, у авторов-женщин он относится к мужчинам в три с половиной раза чаще (с. 73—74). Видимо, такие результаты (и методы) полезны для социологов и психологов, занимающихся проблемами гендера.
Заметны и ситуации, связанные с культурной экспансией. В списке бестселлеров в Британии по версии «The Sunday Times» в 1974 г. 84% британских и 16% американских книг, в 2014 году — 63% и 37%. В США за это время доля британских бестселлеров уменьшилась с 38% до 11%. Удается проследить важные изменения во времени. Частота использования наречий степени («очень», «мало», «довольно») с начала ХХ в. уменьшилась вдвое — стиль становится более безоговорочным?
Можно даже, пусть очень приблизительно, попытаться оценить степень сложности текста. Блатт приводит формулу Флеша-Кинкейда (с. 125), по которой, в общем, текст тем сложнее, чем более длинные слова и предложения он использует. Оказывается, что сильно упрощается речь политиков: первое предложение из первого послания Вашингтона «О положении страны» по этой формуле имеет уровень сложности 15, первое предложение такого же послания Дж. Буша — 4. «Если вы оптимист, то скажете, что политики пытаются достучаться до более широкой аудитории. Если вы циник, то приметесь утверждать, что политика становится глупее с каждым десятилетием» (с. 127). Сходные изменения в литературе. В списке бестселлеров по версии «New York Times» в 1960-е 47% с уровнем сложности более 8 и только 11% с уровнем сложности менее 6, в 2010-е процент изменился на 3% и 48%. Блатт связывает это с тем, что в список бестселлеров попадает все больше откровенно коммерческих романов, но и внутри жанров происходит упрощение (о нем говорит и другой тест, по формуле Дейла-Чейл, реагирующей на количество сложных слов). Блатт, видимо, оптимист, он снова говорит о необходимости достучаться до более широкой аудитории и о том, что, например, «В дороге» Керуака имеет уровень сложности всего 6,6.
Материал книги Блатта — классическая проза, бестселлеры и любительская литература из интернета; применять статистические методы к поэзии или сходной с ней прозе он не пытается, видимо, понимая, что там значение слова настолько меняется в зависимости от контекста, что случаи употребления этого слова затруднительно суммировать. Блатт всегда упоминает исключения. По частоте наречий на -ly «Моби Дик» ближе к коммерческому роману, чем к Хемингуэю, но это не делает его плохой книгой. «Любовник леди Чаттерлей» и «Над пропастью во ржи» ближе к текстам, написанным женщинами, а «Орландо» — к текстам, написанным мужчинами (с. 55), что подтверждает андрогинную специфику этих произведений.
Книга способна стимулировать исследователей художественной литературы. Но она же — источник тем для курсовых, посильных для начинающего студента и в то же время дающих неожиданные результаты.
Александр Уланов
Homo liber: Сборник памяти Л.Г. Фризмана /
Ред.-сост. П.С. Глушаков, Д.С. Бураго.
Киев: Изд. дом Дмитрия Бураго, 2020. — 472 c. — 300 экз.

Содержание: Глушаков П.C. От составителя. I. Воспоминания: Козлик И.В. Что осталось; Абрамович С.Д. Литературовед (О Леониде Фризмане); Лосиевский И.Я. Леонид Генрихович, Лёня, Лёсик; Бондарь К.В. Память об учителе в инскриптах; Егоров Б.Ф. В Харькове (из дневника за март 2004 г.); Карась-Чичибабина Л.С. Благодарная память; Кшондзер М.К. Судьба только начинается; Тахо-Годи Е.А. Унаследованная дружба. II. Исследования и материалы: Альтшуллер М.Г. Истории «минуты роковые» (Федор Тютчев и Николай Глазков); Анохина Ю.Ю. Философская элегия Е.А. Боратынского «Я посетил тебя, пленительная сень…»: онтологический мотив пустоты; Бондарь К.В. «Кто знает дядю Иринея?..» (к изучению творческого наследия В.Ф. Одоевского); Геллер Л. Враги здоровья и народа: парадигма болезни в советском соцреализме; Гельфонд М.М. «Пироскаф» Боратынского: жанровый и метрический контекст; Глушаков П.C. Из заметок о Пушкине; Джиганте Д. Итальянские отклики и отражения в стихотворении Елены Шварц «Зверь-цветок»; Есипов В.М. Между «Онегиным» и «Дмитрием Самозванцем» (Царь и Бенкендорф в противостоянии Пушкина с Булгариным); Заборов П.Р. Луи Лалуа — французский русофил; Карпов А.А. Человек в водовороте истории (К биографии Е.В. Петухова); Кафанова О.Б. «Дубровский» А.С. Пушкина в переводе И.С. Тургенева; Кибальник С.А. Проблемы научной интерпретации пушкинской поэмы «Анджело»; В.А. Кошелев. Гоголь: «история с географией»; Кулагин А.В. «Упал двенадцатый час…» К истории одного лирического мотива: Маяковский — Анчаров — Высоцкий; Кшондзер М.К. Текст, подтекст, интертекст в поэзии О. Мандельштама; Лотман М.Ю. Ритмика четырехстопных двусложников Юргиса Балтрушайтиса в типологическом аспекте; Манн Ю.В. Усложнение приема (Заметки о стиле Гоголя); Найдич Э.Э., Найдич Л.Э. Два этюда о Лермонтове; Рейтблат А.И. На страже журналистской этики: Письмо Ф.В. Булгарина к И.П. Липранди; Строганов М.В. Инвалид инвалиду рознь: Типология девиаций и культурное осмысление типов инвалидности; Хазан В.И. «Укусы своры верных»: Два сюжета о стихотворных пародиях и эпиграммах в эмигрантской поэзии (А. Гингер, А. Присманова, Д. Кнут и др.); Козорог О.В. «Быть знаменитым некрасиво…»; Корнильева Л.Н. Таким я его знала; Бураго Д.С. Воспоминание из детства.
Арьев А.Ю. За медленным и золотым орлом: О петербургской поэзии.
СПб.: Изд-во Пушкинского Дома; Нестор-История, 2018. — 544 с. — (Современная русистика. Т. 5). — 1000 экз.
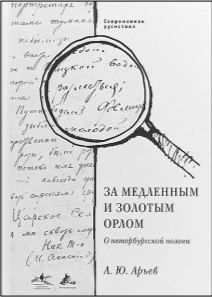
В новой книге литературоведа и критика Андрея Арьева собраны статьи о петербургской поэзии, в большинстве своем публиковавшиеся прежде в журналах, антологиях и малотиражных сборниках. Специально для этого издания была написана программная статья «Человек» с эпиграфом из Мандельштама: «Не город Рим живет среди веков, / А место человека во вселенной», и в центре исследовательского внимания оказывается не только и не столько «петербургский текст», сделавшийся уже общим местом и разошедшийся по сотням монографий, диссертационных и курсовых сочинений, но человек — автор и герой такого текста. Этот великий, «казенный» и «умышленный» город, по мысли Арьева, сам «избирает» свой персонаж — маленького человека, пушкинского Евгения, «чудака» и «лоха» с его «частным существованьем»; героями здесь становятся «антигерои», а поэты этого города «склонны полагать себя “последними”» (с. 19). Кажется, неслучайно автором заглавной цитаты («За медленным и золотым орлом») выбран именно такой поэт — больной чудак Василий Комаровский. Наконец, — и Арьев настаивает на этом, — именно в Петербурге с его «двойным счетом» появился «новый тип людей» — русская интеллигенция с «идейностью задач» при «беспочвенности идей» (Арьев цитирует здесь «Трагедию интеллигенции» Георгия Федотова), и именно здесь, в «самом беспочвенном углу необозримой империи», возникло русское «почвенничество» (с. 32—33).
В первой же статье задается авторский фокус: речь, главным образом, о петербургских поэтах ХХ в. — от Анненского до Кушнера и от Мандельштама до Стратановского. В известном смысле перед нами большой центон, и отмеченные тут переклички (смелые сближения) между петербургскими поэтами, которые призваны проявить в них некие общие черты genius loci, убедительны именно в силу плотности городского текста и контекста. Лишь одна работа посвящена не столько поэтам и отношениям между ними, сколько собственно тексту, — собирательному тексту города, вернее, петербургского пригорода: «Великолепный мрак чужого сада» — статья, которая в свое время предваряла собранную Андреем Арьевым «Царскосельскую антологию» (2016). В самом начале Арьев цитирует своего предшественника Эриха Голлербаха, заметившего, что из «антологии» «Царское Село» превратилось в «онтологию», т.е. в «область самоценного поэтического бытия» (с. 42). Но едва упомянув Пушкина и Жуковского, автор стремительно переключается на Кушнера и Кривулина, и в целом эта антологическая подборка (вернее — ее презентация, — самих «антологических» стихов как подтверждения исследовательского сюжета в этом сборнике очевидно недостает), надо думать, «тень от тени», «исчерпание темы» и преодоление большой поэтической инерции. И нам убедительно показывают, как от дворцов и парков зрительный фокус перемещается к переулкам и палисадникам, к «заборам дощатым», к захолустным «лопухам и крапиве», как «соловьи в стихах» превращаются в «соловьев в прозе», а потом и вовсе в «соловья, цитирующего Зощенко» (Лев Лосев). Строка, выбранная для названия статьи — «Великолепный мрак чужого сада» — тоже цитата цитаты, это Пушкин, прочитанный через Ахматову, и не случайно ключевым словом царскосельских стихов становится именно «тень». А заканчивается статья «царскосельским ворованным воздухом»: Горбаневская цитирует «Четвертую прозу» Мандельштама, а Арьев ее перефразирует, превращая «ворованный воздух» в «украденный» — «у задохнувшегося Анненского, у расстрелянного Гумилева, у загубленной царской семьи, у извозчика и мастерового» (с. 107).
Главные герои этой книги — петербургские поэты ХХ в., и центральный ее раздел, «Соответствия», посвящен «цеховикам»: гумилевскому «Цеху поэтов» и его основным персонажам — Осипу Мандельштаму и Георгию Иванову. В первой статье раздела Мандельштам предстает как читатель Константина Леонтьева: Арьев полагает, что именно с идеями Леонтьева связаны «бесконечная сложность» и «цветущее разнообразие» из «Утра акмеизма» и, что важно, «не по чину барственная шуба» из «Шума времени» и весь семантический комплекс удушающего «мира державного» и «зимнего периода русской истории» происходят из юбилейного тома сочинений Леонтьева и приложенного к нему портрета «первосвященника мороза и государства <…> в меховой шапке-митре». Арьев показывает это достаточно убедительно, и в той же статье он толкует стихотворение Мандельштама «Я пью за военные астры» (1931) как «тост за Леонтьева» или «полемику с Леонтьевым». Такое прочтение, возможно, и дополняет уже известные толкования «квазитоста» (от А.К.Жолковского, который называет эти стихи «автопортретом», до З.Г. Минц, видевшей здесь «поэтический диалог» с Цветаевой), но все-таки вряд ли может быть сочтено основным и исчерпывающим комментарием к «дразнилке»-каталогу ностальгических и недоступных ценностей.
Иного порядка «соответствия» в статье, посвященной биографическим и литературным отношениям Мандельштама и Георгия Иванова: здесь, с одной стороны, частые переклички, возникающие из общего контекста и литературного быта, с другой — уже после эмиграции одного поэта и смерти другого — далекие отсылки, возникающие именно в силу различия контекстов и отсутствия информации. Это особенно заметно в стихотворении Георгия Иванова 1954 г. «Это было утром рано...», воссоздающем картину гибели Мандельштама такой, какой Иванов ее себе представлял.
Еще четыре статьи из этого раздела представляют литературные отношения Георгия Иванова, и, по сути, он становится основным героем книги о петербургской поэзии ХХ в. Работа под названием «Когда замрут отчаянье и злоба» — о дружбе-вражде «неразлучных Жоржиков» и обоюдного порядка клеветнической мифологии: с одной стороны, будировавшиеся Адамовичем слухи о коллаборационизме Георгия Иванова, а с другой — сочиненное Ивановым «Дело Почтамтской улицы», где хозяин притона-салона Георгий Адамович «замывает кровь» и топит в проруби «отрубленную голову». Вторая статья («Виссон») — тоже о вражде, в том числе — поколенческой: речь о литературных «распрях» Набокова (Сирина) с «цеховиками» и непосредственно с Георгием Ивановым. Арьев начинает с того, что участники «Цеха поэтов» представляли определенное литературное поколение, тогда как Набоков ни к какому поколению не принадлежал, и потому «при сходном у обоих писателей насмешливом складе ума младший так живо проникался духом пародии, в то время как старший <…> возвел в перл творения стилизацию» (с. 241). Отдельная работа посвящена «главному стихотворению Георгия Иванова» «Хорошо, что нет Царя…»: по мысли Арьева, все, что Георгий Иванов «писал за пределами России, — это своего рода комментарий к розановскому “Апокалипсису нашего времени”» (с. 288). Отметим также тонкое замечание о значении, которое придавал автор этих «апофатических стихов» четырехстопным хореям и «заметке о хореях» Петра Бицилли («Пляски смерти», 1934). Наконец, последняя статья этого цикла — о «Посмертном дневнике» Иванова и текстологических проблемах, с ним связанных.
Завершает раздел поэтических «соответствий», главными героями которого были Мандельштам и Георгий Иванов, статья о Льве Лосеве и Александре Блоке. Здесь речь о причинах того «вкусового» и «гипертрофированного» неприятия Блока, которое потом будет названо «отрицаньем родства» и которое было характерно для Лосева и в целом для круга Бродского — «литературной молодежи, группировавшейся вокруг Анны Ахматовой в начале 1960-х». Арьев разъясняет причины такого отталкивания: двусмысленное отношение Ахматовой к поэтическим «тенорам», взаимное неприятие символистов и «преодолевших символизм» акмеистов. Но в то же время он расшифровывает прототипические блоковские аллюзии и метонимические «аттестации» («черный бокал»), показывая в конце концов — цитатой из самого Лосева, — что при всем полемическом отвержении и «выворачивании наизнанку» Лосев, как и Бродский, говорят с Блоком «на одном языке» (с. 374).
В последний раздел книги («Уединенные») вошли три статьи из составленного Борисом Ивановым и вышедшего в 2011 г. сборника «Петербургская поэзия в лицах», — о Дмитрии Бобышеве, Викторе Сосноре и Александре Кушнере, а также относительно недавняя статья о Сергее Стратановском, опубликованная прежде в журнале «Урал» (2017. № 1). По сути, это монографические «портреты» со своими сюжетными парадоксами: «ахматовского сироту» Бобышева сменяет Соснора, протеже Николая Асеева и Лили Брик; а за «поэтом без истории» Кушнером следует «поэт с историей» Стратановский.
В заключение скажем, что перед нами тот редкий случай, когда сборник статей становится самодостаточной книгой. Как и было заявлено в начале, главный герой здесь — не Город и не «текст города», но «человек в Городе», и этот человек — поэт. В центре сюжета оказываются авторы «петербургского» текста, они же — его персонажи, их биографические и литературные отношения, их исторические и текстуальные переклички («соответствия»).
Инна Булкина
Владимир Шаров: По ту сторону истории: Сборник статей и материалов /
Под ред. М. Липовецкого и А. де Ля Фортель.
М.: Новое литературное обозрение, 2020. — 704 с. — 500 экз.

Содержание: Липовецкий М., де Ля Фортель А. Предисловие; Дунаевская О. Когда часы остановились; Шишкин М. Бегун и корабль; Мирзоев В. «Все мы умираем детьми». Памяти Владимира Шарова; Водолазкин Е. Прогулки с Шаровым; Макарова Е. К вопросу о такырах; Громова Н. «Рукописи не горят. Горит бумага. А буквы улетают обратно к богу»; Белкин Б. Мне повезло. О встречах с Владимиром Шаровым и его книгами; Березин В. В реке времени; Гаврилов А. Ремонт провалов; Иванова Н. «Не чувствую себя ни учителем, ни пророком»; Бердичевская А. Пространство Шарова и «великая шаткость»; Беленкин Б. Комментарий историка к «Царству Агамемнона»; Журбин А. Только один разговор; Курчаткин А. Строитель романов-кораблей; Рывкин Я. Пять дней в Германии; Смирнов А. Шахматист Владимир Шаров; Эмерсон К. К вопросу о Шарове и Льве Толстом; Эпштейн М. Сатанодицея: Религиозный смысл русской истории по Владимиру Шарову; Эткинд А. Владимир Шаров как историк; Липовецкий М. Теология террора: исторический метасюжет в романах Шарова; Дмитриев А. Между двух Платоновых, или Наука «данного иного»; Бавильский Д. Ниши Шарова; Реди О. Как сделаны романы Шарова: «Репетиции» и «До и во время»; Кукулин И. Электра, сестра Палисандра: нарративы фантастического родства и их функции в романах Владимира Шарова; Горбенко А. Homo conservat omnia: история как палимпсест нарративов в романах Владимира Шарова; де Ля Фортель А. «Ход коня», или Идеалистический мимесис Владимира Шарова; Горски Б.А. Шаров и правда, или Путь Гоголя; Надточий Э. Нарком небесных путей сообщения; Димова П.Д. Революция как космическая мистерия: Скрябин в романе «До и во время» В. Шарова; Габриэлова А. Рифмы и рефрены: художественное время в романах Владимира Шарова; Уолш Г. Микрокосмография русских культурных мифов в аллоисторических романах Владимира Шарова; Борисов Г. Принц Борнейский; Борисов Г. «Отказ от детей — растянутое самоубийство»: беседа с Владимиром Шаровым.
The Lyrical Subject in Contemporary Russian Poetry / Ed. H. Stahl
Russian Literature. 2019. — Vol. 109/110. — 314 p.

Выход в свет спецномера «Russian Literature» о субъектной структуре современной русской поэзии состоялся благодаря большой совместной работе российских и зарубежных ученых в рамках российско-немецкого проекта «Типология субъекта в русской поэзии 1990— 2010-х гг.» (2015—2018) под руководством Х. Шталь (Трирский университет) и С. Бочавер (Институт языкознания РАН, Москва). Годом ранее вышел составленный Х.Шталь и Е. Евграшкиной сборник «Субъект в новейшей русскоязычной поэзии — теория и практика», также целиком посвященный исследованию новейшей российской поэзии сквозь призму субъектности и уже отрецензированный в «НЛО» М. Лепёхиным (НЛО. 2020. № 162. С. 367—372).
Проблема обновления терминологического аппарата, используемого для анализа субъектной организации поэтического текста, назрела давно. Чтобы адекватно описать лирику, например, И. Жданова, А. Цветкова или П. Барсковой, понятия лирического героя (или лирического «я») недостаточно. Даже в рутинной школьной практике обойтись им стало невозможно: как только мы перемещаемся в поэзию второй половины XX — XXI в., становится все труднее сказать, с каким типом лирического субъекта мы имеем дело. Неразличение «лирического героя» и «лирической маски» — одна из типичных ошибок современного школьного литературоведения. О необходимости отказа от этого школярского подхода справедливо писал М.Г. Павловец в статье «Пять ошибок “школлита”» (Литература. 2019. Сентябрь—октябрь. С. 10—16).
Рассматриваемый спецномер — важный и нужный этап в пересмотре не только терминологии, но и представлений об авторстве/адресации поэтического текста и о ракурсах описания его «внутреннего мира». Отправным пунктом в составивших подборку статьях служит тезис о «гетерогенности поэтического ландшафта» (с. 1), а также идея, что «неоднородность поэтических форм субъекта требует разносторонних методологических подходов к их исследованию» (с. 2). Время постмодернистской «смерти автора» закончилось, и на повестке дня — не только исследование форм репрезентации лирического «я» в поэтическом произведении, но и обновление теоретических основ изучения лирики в целом, чему в спецномере посвящена статья Хенрике Шталь «Типология субъекта в современной русской поэзии: теоретические основы».
Новейшая поэзия создает разнообразные формы «подвижного», «множественного» субъекта, однако языка для их описания у литературоведения не оказалось. Если лингвисты могут пользоваться обозначением форм дейксиса субъекта, то литературоведам оставалось выбирать между устаревшими понятиями «лирическое “я”», «текстовый субъект» и «абстрактный автор» (в европейской практике есть еще «текстуальная фигурация»). Опираясь на трансцендентальное обоснование эмпирического субъекта, предложенное в работах швейцарского философа Г. Барта, Шталь предлагает различать в поэтическом тексте «эмпирический субъект» и «эстетический субъект», а в последнем выделять два «слоя»: «целое биографии» и «imago автора» — имея в виду, что человек как автор текста может быть вовсе не равен человеку — частному лицу. Шталь применяет эту многослойную субъектную модель к поэтической книге Е. Шварц «Труды и дни Лавинии, монахини из ордена обрезания сердца (От Рождества до Пасхи)», стихам А. Уланова и О. Седаковой. Пожалуй, наиболее показателен первый случай: поэтесса Шварц заведомо не равна Лавинии, а Лавиния-поэт не тождественна Лавинии-монахине.
Методологическая рефлексия составляет ядро и второй статьи, принадлежащей Виллему Г. Вестстейну («Как назвать “говорящего” в стихотворении?»). Российскому читателю будет интересен критический анализ немецко- и англоязычных понятий, используемых для обозначения субъекта речи в поэтическом тексте. Вестстейн подробно рассматривает историю расподобления авторского «я» и «говорящего “я”» в тексте: если в романтической поэзии они были практически тождественны, то в лирике рубежа XIX—XX вв. единство субъекта ставится под сомнение; модернистская поэзия узаконивает говорение другим голосом, из-под маски, от имени personae (с. 32—33). По мере приближения к началу XXI в. прежний терминологический аппарат все чаще обнаруживает свою несостоятельность в описании более сложно устроенных текстов. Вестстейн предлагает в качестве универсального обозначения «говорящего “я”» термин «speaker», хотя, следует признать, это едва ли решает проблему.
В ситуации обновления (если не смены) терминологических парадигм строгий понятийный ряд оказывается потеснен метафорами, и это тоже примечательная особенность современных исследований новейшей поэзии. Так, в статье Натальи Фатеевой исследуются особенности «расщепленного» субъекта (на материале лирики А. Драгомощенко, В. Гандельсмана, А. Полякова, М. Степановой, В. Кальпиди, Е. Поспелова), в статье Александра Уланова — «скользящего» субъекта (в текстах Пригова и Драгомощенко), а в статье Дмитрия Кузьмина рассматривается «фрэггинг» в поэзии А. Скидана. Это понятие пришло в литературоведение из жаргона американских военных и означает убийство солдатом своего офицера — как правило, путем подрыва осколочной гранаты. Дискурсивная цельность интерпретируется как связанная «с насилием, репрессией, брутальным физическим воздействием» (с. 208), подрыв же — как способ вернуть себе контроль над языком. Краткий экскурс Кузьмина в историю изучения лирического субъекта (от Ю. Тынянова до С. Бройтмана) призван продемонстрировать явную ограниченность «категориально-понятийного аппарата давно прошедших эпох» (с. 205).
Особый интерес представляют статьи, посвященные минималистским формам поэтического высказывания. Так, Райнер Грюбель, выстраивая типологию субъекта в поэзии Г. Айги, подробно анализирует среди иных произведений стихотворение «Спокойствие гласного», состоящее из одной буквы «а»; Михаил Павловец исследует тексты Г. Лукомникова, состоящие из одной точки, или из цифр, или из одного-единственного слова. Очевидно, что для верифицируемой характеристики субъекта подобных лирических высказываний имманентный анализ непригоден (хотя акт отбора и презентации буквы или пробела в качестве собственного произведения и может рассматриваться как проявление субъектности). Интерпретацию таких текстов, как справедливо пишет Павловец, можно дать только в контексте всего творчества автора, помня еще и о значимости в нем перформативного начала.
Перфоманс и поэтическая «режиссура» выделены в качестве важнейших составляющих и в творчестве Г. Сапгира — о множественности субъектов в его сборниках «Голоса», «Монологи» и «Черновики Пушкина» подробно пишет Юрий Орлицкий, подчеркивая драматургические качества лирического текста. Схожий ракурс анализа предложен и в статье Светланы Бочавер «Драматизация как техника создания множественного субъекта в современной русской поэзии» (рассматриваются произведения Е. Шварц, Н. Азаровой и С. Львовского). Закономерно, что за статьей о драматизации следует статья, посвященная интермедиальным аспектам современной лирики, — «Киноглаз 2.0: киносубъект в новейшей русской поэзии» Кирилла Корчагина; в ней рассматриваются «фильмическая оптика» и монтажная техника таких авторов, как Л. Шваб и А. Скидан).
Разные грани поэтического языка современной лирики осмысляются в статьях Массимо Маурицио (замечание которого о том, что «творчество Лукомникова можно рассматривать как сплошную, непрерывную рефлексию по поводу собственного поэтического языка» (с. 153), легко распространить и на бóльшую часть других героев спецномера), Валерия Гречко (статья о «патологиях языка и мышления» как компонентах метапоэтических стратегий), Владимира Фещенко (о проблемах дейксиса) и Натальи Азаровой (о «новых проблемах старого “мы”» в современной поэзии). Завершает номер статья Ирины Сахно о специфике типографического оформления авангардистских текстов.
Еще раз подчеркнем: рассмотренный спецномер — в определенном смысле этапное издание: в нем, с одной стороны, зафиксировано сегодняшнее положение дел в исследовательской практике (со всей разнонаправленностью аналитических стратегий), а с другой — намечены теоретические основы, предложены новые философские рамки для будущих исследований. Планка отбора составивших номер статей, очевидно, была очень высокой, что тоже делает его нерядовым событием в литературоведении.
Татьяна Кучина, Алексей Бокарев
Ермакова П.Ю.
Сентиментальные иконы Лоренса Стерна: «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» и визуальная культура Европы конца XVIII — середины XIX века.
СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт- Петербурге, 2019. — 182 с. — 500 экз.
Автор книги требует от читателя быть не только филологом. Хотя в книгу удалось включить много иллюстраций, «из- за соображений авторского и музейного права не все из этих ослепительных примеров» ему «удалось привести в этой книге» (с. 17), и читателю предлагается взять в руки смартфон и поиском найти заинтересовавшие его предметы. В основе книги — кандидатская диссертация, и некоторые диссертационные свойства, такие как обширный обзор литературы и несколько чрезмерная для монографии тематическая особенность глав, налицо. Но острота подхода заставляет забыть о диссертациях, и чем дальше читаешь это сравнительно небольшое исследование, тем больше понимаешь увлекательность темы.

Главный вопрос книги: можем ли мы назвать Лоренса Стерна писателем «рокайльным», эпохи рококо, и насколько визуализации его произведений, иллюстрации к «Сентиментальному путешествию» от книжных гравюр до полотен Ангелики Кауфман, удерживают эту «рокайльность».Из знаменитой работы В.Шкловского П. Ермакова взяла представление о юмористической диалектике внешней и внутренней жизни у Стерна, а из современного науковедения — представление о важности ньютоновского учения о цвете как «разложении» света для европейской характерологии XVIII в.: автор связывает английскую карикатуру и пародию с представлением о диапазоне деформаций характера, обязанным научной революции.
Слово «рокайльный» в работе употреблено не меньше сорока раз: П. Ермакова упоминает «рокайльные черты поэтики» (с. 65), сопоставляет философский стиль Локка с «рокайльной программой» (с. 50), художник Джошуа Рейнольдс оказывается не чужд «рокайльной иронии» (с. 51), и даже в теории Уильяма Хогарта, к которой Стерн все время полемически обращался, отмечается «присутствие рокайльных стилевых особенностей» (там же). Такое употребление слова сразу заставляет вспомнить аналогичные расширения частных особенностей стиля до выражения духа эпохи, начиная от изобретения «барокко» Г. Вёльфлином до трактовки «бидермейера» А.В. Михайловым как диалектического стиля европейского XIX в.
При этом рококо определяется в работе скорее отрицательно — как нечто противоположное универсализму барокко, проектам вроде универсального языка или универсальной системы наук Лейбница. Рококо в широком смысле, с которым П. Ермакова сближает философию Дж. Локка, это наблюдения вместо обобщений, прогулка вместо экспедиции или паломничества, чайный домик, беседка, межеумочное пространство комфорта вместо монументальности дворцов и парков. Именно последнее наблюдение над пространственной интуицией рококо позволяет автору говорить об английской рокайльности, хотя как художественный стиль рококо в Англии был несравненно менее развит, чем во Франции.
Уже в первой главе мы узнаем, как «рокайльное» подсматривание, подглядывание запечатлевалось в многочисленных изображениях глаза в декоративно- прикладном искусстве, что повлияло и на тогдашний театр, и на сюжеты Стерна. Вторая глава объясняет, как «Сентиментальное путешествие» изменило само понятие о «сентиментальном», от мысли о разумной внимательности к почти мелодраматичности. Наконец, в третьей главе с привлечением большого количества иллюстраций истолковывается несколько сюжетов Стерна. Эта глава — по сути, несколько очень убедительных расследований, и, по нашему убеждению, книга пострадала бы, но не роковым образом, если бы состояла из одной этой главы, превращенной в очерки и изданной цветным альбомом. Эти очерки и сейчас читаются с не меньшей увлеченностью, чем романы и повести А. Байетт, посвященные искусству.
Например, мы узнаем, как связаны идиллические изображения деревенской жизни, сентименталистские трактовки танца, красота волнообразной линии по Хогарту и организация большого повествования. П. Ермакова обращается к термину «контрданс», который связывает все эти четыре явления. Для автора отказ от архитектурной организации романического повествования и переход к «контрдансу» — и есть перелом от барокко к рококо.
Или история монаха Лоренцо, в которой критики обычно видят рождение нового сентиментального субъекта, для П. Ермаковой знаменует, с одной стороны, торжество книжной иллюстрации, когда и человека повествователь рассматривает как иллюстрацию, а с другой стороны, новые режимы видимости. Обмен табакерками — это замена прямого зрительного контакта знаками внимания, а значит, и новая игра откровенности и сокровенности, на которой основаны любовные воздыхания уже новой эпохи. Как отмечает автор (с. 120), после выхода книги Стерна мода на табакерки приняла невероятные масштабы во всей Европе. «Вскоре в Германии последовало изготовление и продажа роговых табакерок с цитатами из Стерна. Они получили даже специальное название в честь францисканского монаха “Lorenzodosen”. К сожалению, образцы этих табакерок пока не найдены, но их подробное описание мы можем встретить в переписке немецких сентименталистов круга Якоби» (имеется в виду поэт и преподаватель риторики Иоганн Георг Якоби, брат знаменитого философа и переводчик Стерна). Увы, почему-то П. Ермакова не ссылается на обстоятельную статью У. Дэя 2004 г., посвященную этому предмету («Sternean material culture: Lorenzo’s snuff-box and its graves»), где говорится, в частности, как овальные табакерки превращались в предмет эстетической игры немецких стернианцев.
Еще один сюжет — изображения узника: у Стерна он просто упоминается, но на иллюстрациях непременно изображается. По сути, так был создан книжный канон, требовавший иллюстрировать не только самые важные, но и побочные эпизоды, если они важны для понимания замысла автора: П. Ермакова связывает популярность изображений узника с топосом «узник пера» применительно к авторам, представлением о цивилизации как темнице и, наконец, с сочувствием разбойникам за то, что они не всегда были злодеями и могут перестать ими быть. Перед нами своеобразное молитвенное созерцание графического образа, и о такой фасцинирующей роли иллюстрации исследовательница говорит не раз, мимоходом и не только мимоходом.
Наконец, обезумевшая от несчастной любви Мария, которую тоже полюбили художники и граверы, ознаменовала переход от старого понимания меланхолии как особого темперамента и особой обостренной чувствительности к новому — как отчаяния и трагизма. П. Ермакова осторожна со словами и не говорит ни «чувствительность», ни «трагизм», чтобы не увести читателя к недолжным ассоциациям. Она находит, например, в картинах того времени «две стадии английского сплина: созерцательную сентиментальную меланхолическую грусть и предромантическое меланхолическое отчаяние» (с. 147). Исследовательница прослеживает судьбу этого образа вплоть до «Идиота» Достоевского и замечает, что он стал транслятором ценностей одной культурной эпохи в другую: «Мария предстает и рокайльной галантной дамой, и сентиментальной руссоистской дочерью природы, олицетворением английской меланхолии и сплина, и романтической отверженной безумной. <...> художникам и иллюстраторам она помогает отточить язык новой, только появляющейся эстетической системы» (с. 167)
Жаль только, философия к концу книги уходит из поля зрения автора. А ведь в трудах того же Локка можно найти не меньше ключей к наступлению новой эпохи изображения страстей, чем у Рейнольдса и Хогарта. Например, в «Мыслях о воспитании» Локк говорил, что ребенок видит страшное, льва или негра, и перестает бояться. В «Опыте о человеческом разумении» он же замечал, что мы, видя льва или розу на плоскости изображения, все равно смотрим на льва и розу, а не на краски как таковые. Ясно, что в обоих случаях идет речь не о картинах на стену, а о гербах, типичных геральдических символах, которые видят дети-аристократы, преисполняющиеся благородного мужества, побеждающего страх. Но уже здесь мы замечаем ту самую «рокайльность», которую пытаемся определить на протяжении чтения всей книги: бесстрашие, определяемое не общими местами риторики, а опытом созерцания, способным концентрироваться на частностях. Когда закрываешь книгу, думаешь, как хорошо было бы почитать исследование о русском стернианстве с не менее богатым иллюстративным материалом.
Александр Марков
Метаморфозы театральности: разомкнутые формы: Сборник статей и интервью / Сост., предисл. П. Богдановой.
М.: Новое литературное обозрение, 2020. — 304 с. — 500 экз.

Содержание: От составителя. Введение в тему; Богданова П. Выстрел Паратова. Замкнутая модель классической пьесы; Богданова П. Размыкание классической структуры: Чехов, Петрушевская, Пряжко; Лебедев С. Квантовая драматургия Пряжко; Купченко Т. «Новые серьезные», или Почему можно верить пьесам Ивана Вырыпаева, а эстетические взгляды Михаила Угарова рассматривать в русле метамодерна; Матвиенко К. Настоящее неопределенное. Драма, XXI век, трансформации, перемены, новые качества; Лисин Д. Типы театральности: Брусникин, Лисовский, Юхананов, Клим; Давыдова М. Купи слона! «Золотой осел» Бориса Юхананова; Болотян И. Иммерсивные «экспириенсы» в Москве; Клейман Ю. Город и его изнанка: Петербург и сайт-специфические театральные опыты; Пархомовская Н. «Квартира» как процесс. Записки соавтора проекта; Сизова М. От себя к себе. И снова по кругу. «Квартира. Разговоры»; Болотян И. Разомкнутость партиципарного искусства. Заметки; Брандт Г. Чехов на футбольном поле: другие правила театрального восприятия; Богданова П. Изменение театральной модели к XXI веку; Павлович Б.: «Ты идешь в неизведанное» [интервью]; Лисовский В. «У нас есть “Лаборатория смерти”, где речь прямо идет о смерти театра» [интервью]; Пулинович Я. «“Новая драма” “тычет” лицом в жизнь» [интервью]; Васильев А. «Разомкнутое пространство действительности».
Благодарим книжный магазин «Фаланстер» (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27; тел. 8-495-749-57-21) за помощь в подготовке раздела «Новые книги». Просим издателей и авторов присылать в редакцию для рецензирования новые литературоведческие монографии по адресу: 123104 Москва, Тверской бульвар, 13. «Новое литературное обозрение». Отдел библиографии.