Журнальный клуб Интелрос » НЛО » №168, 2021

В коллективной монографии представлены материалы конференции «Русская авантюра», проведенной в сентябре 2017 г. Школой актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС. «Отправной точкой» для докладчиков и авторов статей стала давняя книга А.Ф. Строева «Те, кто поправляет фортуну. Авантюристы Просвещения» (М., 1998), но не только она. Мы встречаем здесь ссылки на работы М. Липовецкого и Л. Хайда о трикстерах и определение авантюры «без прагматики» из книги С. Венаэйра «La gloire de l’aventure: genèse d’une mystique moderne: 1850—1940», а кроме того, авторы упоминают об «экзистенциальном опыте» и «темпоральной конструкции приключения» из одноименной статьи Г. Зиммеля (1911). Все эти определения выходят за пределы эпохи Просвещения, и в первом разделе («Идентичности») мы читаем по большей части о «неклассических» авантюристах, будь то «маленькие люди XVI века», подобные герою статьи К. Ерусалимского, московиту Ивану Бурцеву, который стремился стать — и стал в конечном счете — волынским шляхтичем Иваном Бурцевским («Иван Москвитин: смерть и возрождение»); или это советские «побегушники», так или иначе преодолевающие «границу на замке» (И. Гордеева. «Измена Родине в форме бегства за границу…»). Сюжет первого раздела — именно в широком определении авантюризма как смены идентичности, отказа от навязанной роли и создания некой более привлекательной альтернативы. Но даже в такой — очень широкой — перспективе странно и парадоксально выглядит история Николая Огарева, героя статьи С. Волошиной о «прекраснодушном авантюристе». Огарев, очевидно, не авантюрист в привычном смысле: он не ищет «привлекательной альтернативы», а сознательно ухудшает свое положение и состояние, пускаясь в авантюрные проекты — экономические и семейные. Это даже не «модерный» непрагматический авантюризм, это проекты с обратной, отрицательной прагматикой (даже если самому герою они таковыми не казались). Наверное, в этом смысле огаревский сюжет при всей его парадоксальности уместнее смотрелся бы во второй части книги («Проекты»). Что же до «Идентичностей», то другой, более привычный нам в таком контексте исторический персонаж по фамилии Бурцев закономерно появляется в статье О. Бессмертной о «мусульманском Азефе» Григории Эттингере, называвшем себя Кази-Беком Ахметуковым и Магомед-Беком Хаджетлаше. Отметим также статью о самозванце Иване Тревоге, малороссиянине, объявившем себя «наследным принцем Голкондии», главным образом для того, чтобы привлечь внимание к своему проекту идеального государства — просвещенной монархии «Борнейского царства» (Р. Кауркин. «Наследный принц Голкондии…»), и невероятно увлекательную реконструкцию-разоблачение авторской биографии популярной писательницы Ary Ecilaw, за которой, как убедительно показывает Х. Баран, стоит Александрина Гуттен-Чапская, многократно менявшая имена и отечества вполне законным образом — выходя замуж. Особенность этого авантюрного «проекта» — как раз таки в соотнесении биографической и литературной реальностей, в превращении придворной мелодрамы в «романы с ключом» и в создании двусмысленной прототипии.
В разделе «Проекты» фокус смещается с личности авантюриста на так называемое self-fashioning — процесс утопического литературного моделирования, и открывается этот раздел статьей Н. Кочековской о дипломатическом скандале, связанном с европейской миссией Константина Скобельцина, «гонца Ивана Грозного» («А был ли авантюрист? Казус Константина Скобельцина»). Исследовательница убедительно показывает, что «авантюристическая логика» здесь продиктована собственно ситуацией и внешнеполитическим контекстом (идеей Антиосманской лиги) и в меньшей степени — индивидуальной стратегией: авантюрист в ренессансную эпоху, скорее, персонаж некоего большого спектакля, нежели личная идентичность. Предмет статьи А. Строева — «забытый проект Дж. Казановы», «государство шелковичных червей». «Чудо природы» — тутовый шелкопряд, положительный герой Энциклопедии французских просветителей, становится героем утопического и отчасти алхимического романа, в который мало-помалу превращается «проект» Казановы. К той же эпохе относится «полярный проект» Ломоносова, суть которого — в поисках прохода через «свободные ото льда» северные моря: экспедиция адмирала В.Я. Чичагова, снаряженная в согласии с этим проектом, должна была проложить путь через высокие широты Арктики в Тихий океан, к берегам Вест-Индии. Это «неудачливое предпрятие» оказалось последним проектом Ломоносова, и автор статьи И. Дмитриев дает понять, что роковая ошибка Ломоносова была еще и не вполне самостоятельной: «северный исполин», скорее всего, позаимствовал аргументацию в «Естественной истории» Бюффона. Несколько похожего порядка полярных экспедиций на яхте «Мечта», авантюрных и «бессмысленных с прагматической точки зрения», осуществил в 1900—1901 гг. художник А. Борисов, — этот «отчаянный проект» описывает А. Котомина («300 этюдов “этого ужасного края”»). А. Новик рассказывает историю Александра Эдуарда Лемольта, предприимчивого юриста, скульптора и изобретателя (впрочем, изобретения его, как показывает автор статьи, были вторичны), создавшего в 1838 г. в Эрмитаже «Галерею современников», а в начале 1840-х открывшего на Большой Морской в Петербурге механический кукольный театр, «объединявший все самое интересное из того, что демонстрировалось на парижских бульварах» (с. 309). Наконец, С. Гонобоблева, главным образом при помощи фотографий, представляет переселенческий «проект» секты «новоизраилевцев», в 1913 г. прибывших в Уругвай и создавших там город Сан-Хавьер.
Третий раздел монографии называется «Репрезентации», и тут речь идет о литературе приключений и об авантюрных сюжетах в известных текстах, подчас неожиданных, как французский перевод «Капитала» Маркса. В. Мильчина объясняет происхождение здесь bon mot «Спасаем кассу»: переводчик Жозеф Руа вставляет в политико-экономический трактат фразу из комедии «Паяцы» — реплику плута Бильбоке, переводя Маркса «не только с немецкого на французский, но и с языка научного на язык широкой публики» (с. 375). А. Лукашкин подробно анализирует феномен «русского Рокамболя» — журналиста и агента охранки Ивана Манасевича-Мануйлова: этот вполне реальный персонаж строит свою биографию как герой романа-фельетона. Наконец, М. Кривошеина выделяет корпус эмигрантских детективов — так называемого «Белого Пинкертона» в противовес популярному жанру раннесоветского детектива — «Красному Пинкертону». Завершает сборник лексикографическая статья В. Глебкина «Генезис и структура лексического комплекса “авантюра”». Основным источником для анализа здесь становятся словари, Национальный корпус русского языка (автор прослеживает частотность и трансформации значений, выделяя разного порядка подкорпусы) и… Полное собрание сочинений В.И. Ленина. Один из выводов этой работы вполне предсказуем: «…ограниченность возможностей НКРЯ» (с. 424). Второй вывод не столь очевиден: автор настаивает на ключевой роли социокультурных факторов в структурной эволюции лексических комплексов. Так, изменения в частотности и семантических характеристиках «авантюры», «авантюризма» связаны главным образом со словоупотреблением вождя мировой революции: именно благодаря Ленину, полагает Глебкин, в структуре комплекса закрепляется «пейоративный аспект». Наконец, любопытны наблюдения, связанные с терминологическими определения- ми «авантюрного» (романа) в работах М.М. Бахтина.
Elliott K.
Theorizing Adaptation.
N.Y.: Oxford University Press 2020. — X, 362 p.
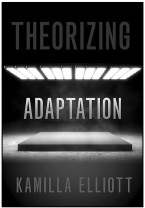
Камилла Эллиотт — профессор Ланкастерского университета, один из ведущих специалистов по адаптациям: литературным, кинематографическим, театральным и в новых медиа. В ее новой книге «Теоретизируя адаптацию» широта хронологических рамок — с XVI в. до наших дней — уравновешена локализацией в англо-американском пространстве, к которому принадлежат и большинство коллег Эллиотт, и ее материал. Книга делится на две части: историко-теоретический экскурс и собственно теоретический раздел, в котором проводится ревизия современного состояния адаптационной теории, пересматриваются подходы к определению объекта исследования, ставятся под вопрос принципы классификации адаптаций и предлагается альтернативная терминология.
Отправной точкой для размышлений о месте адаптационных практик в современной культуре служит тезис о том, что компаративистская мысль ставит в привилегированное положение различие, несходство, несовпадение, испытывая некоторую враждебность к подобию. Адаптация, как напоминает Эллиотт, держится на подобии в той же степени, что и на несходстве; это — «повтор с варьированием» (Л. Хатчен). Однако в том фрагменте интеллектуальной истории, который рассматривает автор, различие позиционируется как ценность (романтическая оригинальность, политический нонконформизм, медийная специфичность, постмодернистская множественность), а подобие превращается в почти табуированный объект теории (эстетический дериват, политическая конформность, культурная гомогенизация, массовое производство). Смущенно пряча значимость подобия за обсуждением радикальных несовпадений и несоответствий (здесь Эллиотт, заметим, почти обходит вниманием франкфуртскую школу), адаптационная теория подстраивается под магистральное движение гуманитарной мысли и отказывается от собственной идентичности.
Подход Эллиотт необычен тем, что она занимается анализом больших массивов данных и составляет таблицы, отображающие, например, адаптационные исследования разных периодов (англоязычный термин «адаптация» автор датирует 1796 г., когда тот был употреблен в критическом отзыве о театральной версии романа) и разных медийных форм (киноадаптации занимают верхнюю строчку, за ними следуют романные адаптации). К числу других критериев относятся национальная принадлежность исследователей (большинство — британцы и американцы), национальная «локализация» литератур и авторов (предсказуемый лидер — У. Шекспир, за ним — Дж. Остин), творчество конкретного режиссера (верхнюю строчку занимает П. Джексон, на втором месте — С. Кубрик).
Важная задача исследования — провести ревизию адаптационных теорий начиная с XVI в. В центр внимания автор ставит вопрос о том, какое качество приписывается адаптации как объекту теоретизирования в разные периоды («хороший» / «плохой» / «неоднозначный» объект). Оценка высвечивает разные аспекты адаптационной практики, на которые направлено исследовательское усилие в разные исторические периоды. Одна из главных тем книги — адаптация и культурная эволюция. Способность текстов к повышенной меж- и внутримедийной подвижности лежит в основе конструирования идей культурного прогресса или регресса. В первой половине XVIII в., как утверждает Эллиотт, адаптация не только является «хорошим» объектом теоретизирования, но и рассматривается как инструмент культуры, способствующий выживанию старых историй и, что более важно, улучшению и прогрессивному переосмыслению их содержания. Именно в адаптации реализуются этический и интеллектуальный капитал, накопленный к просвещенному веку, и формально-стилистическое, эстетическое превосходство, достигнутое просвещенными авторами. «Варвар» Шекспир мог быть адаптирован в первой трети XVIII в. просто потому, что не имел доступа к строгому набору «правил», которыми пользовались позднее более образованные авторы адаптаций.
Начиная с ранних романтиков и проторомантиков адаптация утрачивает привилегированное положение, — положение продукта «шлифовки», очищенного от «заблуждений» прошлого. Романтики с их ценностью неповторимого выражения, артистического гения, который «сделал себя сам» благодаря возможностям индивидуального воображения, увидели в адаптации воплощение беспомощности, производности, эстетической сервильности, недостатка фантазии. Так в начале XIX в. адаптация превращается в «плохой» объект теоретизирования. Романтический миф о творчестве «из ничего» поддерживался и в неоклассицистском представлении о непреодолимых границах между разными медиа (влиятельный пример — «Лаокоон, или О границах живописи» Г.Э. Лессинга). При этом в более зрелом романтизме продолжается использование адаптации как инструмента переоформления культурных и классовых границ: викторианский автор «одомашнивает» иностранные тексты с точки зрения морали (французский имморализм не должен пошатнуть британскую семью), а тексты, которые читают представители среднего класса, следует адаптировать для повышения уровня самых непривилегированных — для воспитания вкуса. Адаптация понимается как практика, подспудно служащая делу культурной эволюции — выведению более «породистого» культурного субъекта.
В ХХ в. эта прогрессистская линия ярко проявляет себя в дискуссии об адаптации литературы в авторском кино, где автор утверждает особую ценность радикального режиссерского жеста на отдаленном фоне литературных нарративов. Синефил превращается в «продвинутого» субъекта культуры, адресата сложного кинематографического письма как более актуальной медийной практики, чем литературное письмо.
Следующий сюжет — адаптация в контексте экономической конъюнктуры, уже получившая систематическое рассмотрение в недавних исследованиях киноадаптации (С. Мюррей). Эллиотт подходит к нему с точки зрения видимого расхождения адаптационных теории и практики в XIX в. На протяжении большей части столетия адаптация, может, и была недостойным объектом теоретизирования, но зато хорошо продавалась: пока романтическая и постромантическая мысль осуждала имитацию, количество адаптаций росло, игнорируя не только требование оригинальности, но и границы, разделяющие медиа. Таким образом, произрастающая еще из текстов Дж. Драйдена теория «родственных искусств» по умолчанию принимается практиками адаптации (викторианский театр как адаптационный конвейер), которых не тревожат лессингианские представления о медийных границах. Важная особенность работы Эллиотт — способность наводить мосты между практиками адаптации в разных медиа, иллюстрируя неподконтрольный теории адаптационный бум прошлых эпох: пока художественные мастерские «Искусства и ремёсла» адаптируют объекты георгианского и староанглийского декоративного искусства к поздневикторианским интерьерам, для более демократичного сегмента рынка начинают коммодифицироваться образцы популярной литературы (известен пример с «пиквикскими» шляпами, тростями и клубами — пространствами «косплея»).
Продолжить эти две темы (эволюционная роль адаптации и ее экономический потенциал) труднее на материале модернизма. Эллиотт вновь обращается к соотношению представлений о подобии и оригинальности: если в позднеромантической культуре у адаптации получалось отстоять свои права (как у разновидности оригинального творчества), то в модернизме требование радикальной новизны, неприятие повтора и подобия («Make it new!» Э. Паунда) лишают этот вид деятельности какой- либо притягательности. Автор, конечно, знает, что в модернистской культуре все устроено сложнее и диалог индивидуального таланта с традицией продолжается через фрагменты, осколки, «куски» прошлого. И все же последовательное адаптирование становится мало востребованной практикой — за исключением раннего кинематографа, черпавшего сюжеты из литературы.
Развитие adaptation studies Эллиотт прослеживает с середины ХХ в., связывая их зарождение с именами француза А. Базена и американца Дж. Блюстоуна. Она показывает, как в этом исследовательском поле отражались теоретические «повороты» гуманитарного знания: приоритет повествования в структурно-нарратологическом подходе Б. Макфарлейна, зрительская рецепция у Дж. Бойэм, интертекстуальные резонансы в новых социальных контекстах (с акцентом на постколониальность) у Р. Стэма, первая систематическая «теория адаптации» как процесса и продукта у Л. Хатчен, адаптация как «аффективный дрейф» у Дж. Ходжкинса, культурная экономика адаптации у С. Мюррей, когнитивистская парадигма адаптирования у Д. Катчинса, адаптация в контексте переводоведения у П. Кэтрисси, акцент на новые медиа у Э. Войгтса.
Центральный вопрос второй части исследования поставлен оригинально: в фокусе внимания оказывается не то, что могут сделать теоретические практики для понимания адаптации, а то, что адаптация как вид культурной деятельности может изменить в нашем понимании практик современного гуманитарного теоретизирования. Отсюда — внимательное рассмотрение места адаптации в культуре предшествующих веков: автор ищет опору для повышения статуса адаптационной практики в интеллектуальной истории, основу для разговора о ней как об альтернативе теоретической практике. Теоретизирование и адаптирование для Эллиотт — практики-соперницы, взаимно сопротивляющиеся культурные процессы, стремящиеся подвергнуть друг друга собственным операциям.
Будучи «повтором с варьированием», адаптация связана с постоянной изменчивостью, но сопротивляется кардинальному изменению; она слишком революционна для консерваторов и слишком консервативна для революционеров. С точки зрения Эллиотт, адаптация представляет собой подчеркнуто пограничное явление, которое подсказывает теоретикам необходимость всегда держаться переходной зоны. Адаптация указывает на высокую продуктивность гибридности, мобильности, флюидности, поддерживает стремление к эклектике, подвергает сомнению власть теории и настаивает на своей открытости для равноправного диалога с практиками теоретизирования.
Полина Рыбина
Краснящих А.П.
Писатели в Харькове. Слуцкий.
Харьков: Права человека, 2020. — 192 с. — 200 экз. — (Писатели в Харькове).

Книга Андрея Краснящих — первая монография, сосредоточенная вокруг воспоминаний и текстов о городе, в котором прошли детские и юношеские годы поэта. С исследовательской точки зрения, это взгляд изнутри; Краснящих живет в Харькове, преподает в Национальном университете им. В.Н. Каразина. Это способствует знанию о локусе, например об истории мест, связанных с поэтом, о том, что могло укрыться от других биографов.
Уже здесь Краснящих задает свои ориентиры рассмотрения Слуцкого — еврейская тема в его текстах и украинское детство-отрочество — и намечает плацдарм из пятидесяти харьковских стихотворений-баллад для реконструкции юных лет поэта.
Книга пристрастна и эмоциональна. Серия «Писатели в Харькове», как мы понимаем (на основании этой книги), задумана как популярная, а не научная, отсюда и выражения вроде «беспафосно слуцкое» или «стрёмно», а сам поэт подается как «главный, лучший поэт послевоенной эпохи» (с. 7). Заметим, что такие выводы все же требуют доказательств, учитывая сонм великих или условно великих имен в диапазоне от Бродского и Шварц до Некрасова и Драгомощенко.
В остальном перед нами важное локальное свидетельство (на стыке литературоведения и литературного краеведения) о значительном и недооцененном — тут мы склонны согласиться с Краснящих — поэте второй половины XX в.
Книга неравнодушна, у автора, что называется, болит за Слуцкого, он расставляет эмоциональные акценты, уходит в местами излишне длинные комментарии, заставляющие вспомнить сноски к кэрролловской «Алисе», но при этом сконцентрирован на Слуцком и эпохе.
Два вопроса, на которые пытается ответить Краснящих, — какое место занимает «Слуцкий в Харькове» и «Харьков в Слуцком» (с. 32). Ламентации начала книги о том, что в Харькове к 100-летию Слуцкого так и не появилось ни улицы, ни памятника, ни мемориальной доски на доме в его честь, дают ответ на первый (возвращается к нему автор единожды, когда говорит о беспамятстве местных школ, на которых нет даже таблички, с. 71—73), а вот второму посвящено практически все остальное.
Реконструкция здесь идет не от места, а от текста; не совсем хронологически, а, скорее, тематически, через стихотворения Слуцкого, автор рассказывает о его жизни и жизни города. Речь поначалу об общем — о «горе-приемнике», «трагичности жизни как таковой» (с. 13), внимательном вглядывании в людские беды, этаком кредо Слуцкого. «Я клоню к тому, — говорит Краснящих, приводя многочисленные цитаты, — что каша заваривалась в Харькове, во всяком случае, многие ингредиенты отсюда» (с. 17). В первую очередь, русский язык, который смешивался здесь — цитируем Юрия Болдырева — «не только с украинским, но и еврейским, немецким…» (с. 18). Из списка харьковских языков, повлиявших на Слуцкого, Краснящих изымает польский, указывая на то, что на Конном базаре, рядом с которым и жил будущий поэт, он практически не использовался: «…поляки в торговый класс не входили, занимались другим» (с. 19).
На языке Краснящих останавливается особо. Ему важно показать, как сформировалась антинормативность поэзии Слуцкого, как неправильности становятся выразительностью (цит. Болдырева, с. 22). Ответ в смеси языков, а значит — культур, о чем писал и сам Слуцкий: «В Харькове Волга русского языка/ смешивает свои широкие воды / с Днепром украинского языка…»
Сейчас, конечно, такое слияние и такие строки невозможны — и по языковым обстоятельствам, и по политическим. Но в 1920—1930-х гг. они передавали дух времени и дух языка. Были нетрадиционной помесью культур, на которой взошла нетрадиционная поэтика Слуцкого. Об этом говорил и Самойлов — о поиске стихов «без систем, вне традиционных ритмов, рифм и образов» (с. 28). И тот Харьков ему подходил лучше прочих.
Итак, на поэтическое становление Слуцкого, как полагает Краснящих, повлияли русский, украинский (от польского — только тоническая система), а еще цыганский и идиш. Интересна градация, которую предлагает автор: украинский отвечает у Слуцкого за жизнеобеспечение (физиологию), русский — за мозговую деятельность, цыганский — за социализацию (не совсем, правда, понятно, как именно — и цитата не спасает), а идиш — за чувства. Сложно сказать, насколько так было на самом деле, все же цитаты из стихов не лучший справочный материал; автор никогда не равен герою и, разумеется, его мыслям. Это, скорее, языки и голоса Конного базара, а вот он-то, безусловно, повлиял на будущего поэта.
Только здесь — приближаясь к трети собственно исследования (вторую половину книги занимает свод харьковских текстов Слуцкого) — Краснящих переходит к жизни поэта в городе, дому, его окружению, школе, друзьям. Как попали Слуцкие в Харьков, откуда и к кому приехали. Важны не только стихотворные свидетельства и обильное цитирование предшественников, автор между делом поясняет: строки «Мы — ребята рабочей окраины Харькова…» были актуальны в 1930-е, когда дом в Плехановке (район города) действительно находился на окраине: «…сейчас-то уже нет <…> полчаса, ну, сорок минут пешком до центра, два с половиной км, а тогда действительно — край города, всё, шлагбаум» (с. 34). Этими комментариями, в первую очередь, и ценна книга. И анализом текстов, из которых Краснящих вычленяет харьковские реалии и поясняет: когда сам, а когда используя воспоминания биографов и очевидцев.
Подобная инвентаризация важна, иногда автору удается отыскать противоречащие друг другу свидетельства, например, сколько этажей было у барака, в котором жили Слуцкие, и сколько комнат они занимали. Кажется, мелочь, но при реконструкции и без того скудно изученного периода жизни такие нюансы существенны. В них точность литературного краеведа и уважение к жизни героя. Очевидно же, что, если бы не близость Конного базара, стихи Слуцкого были бы иными; вот и разобраться, на цокольном этаже жили Слуцкие или нет, в двух или четырех комнатах, — важно для более точного понимания поэтического генезиса.
Краснящих, впрочем, только приводит эти противоречащие сведения (а значит, эпизод требует дополнительного исследования), плавно переходя к среднему достатку семьи, голоду не из-за отсутствия денег, а из-за отсутствия еды; вкупе это давало возможность на карманные деньги покупать книги. Друг и биограф поэта Петр Горелик вспоминал: «Борис поражал не только количеством прочитанных книг, но и знанием ценностей книжного рынка» (цит. по с. 79). И это в 1930-е гг. По Слуцкому, пишет и цитирует Краснящих, прочесть книгу — значит выучить ее наизусть. (Характерная цитата: «Хотел прочитать [Хлебникова] “как следует”. На войне не успел, а после войны — успел» (с. 83).)
Будучи начитанным, для школы Слуцкий был слишком умен (порукой и стереоскопическая память: «…у меня была такая память — / память отличника средней школы»), и учился без особого интереса (с. 66).
Популярный характер книги ограждает Краснящих от необходимости работы в архивах, поэтому он только ссылается на краеведческие изыскания (например, Андрея Парамонова), его собственные выводы — близкие к истине предположения. В частности, о дядьях-сапожниках (с. 47) или о скитаниях родни Слуцкого по Украине (с. 45: «[отец] уехал, надо думать, когда в 1918-м захватившие город большевики отобрали аптеку»). Но не только. Автор позволяет себе оспаривать коллег, например И.З. Фаликова, который широкими мазками объединил образы по-разному погибших женщин из двух баллад: «Слуцкому можно верить, “зазор” у него в ином, не в подмене фактов» (с. 52). И тут Краснящих веришь.
Но подобных эпизодов сравнительно немного.
Скорее стоит говорить о бережном отношении к работам Петра Горелика, Никиты Елисеева, Юрия Болдырева, тех же Парамонова и Фаликова. Думается, и цель книги была — в объединении мнений, в полифонии голосов и свидетельств, которые помогли Краснящих создать объемный образ поэта.
И — окружавших его людей, друзей и родных. В частности, родителей, повлиявших на формирование будущей упертости поэта: отца, выступавшего за профессию, но против лишней учебы (весовщиком/грузчиком на рынке), и авторитарной матерью, старавшейся вложить в ребенка как можно больше знаний.
Автор даже встает на сторону отца («Образ отца у Слуцкого теплее и сложнее, чем у его биографов», с. 59), в то время как «портрет матери из детства» — «холоднее» (с. 65), однако трогательнее стихотворения: «Самый старый долг плачу:/ с ложки мать кормлю в больнице…» — у Слуцкого, пожалуй, не было. И в его отношениях к матери и отцу, пожалуй, еще стоит разобраться.
Вот оно — семейное перекрестье, как и перекрестье языковое.
Как и перекрестье музыки реальной (в которой и сам Слуцкий не видел у себя талантов) и музыки стихотворной речи, которая, по Слуцкому, «единственный род музыкальности, караемый уголовным кодексом» (с. 61). (Не единственный, конечно, если вспомнить как близко к краю оказался Шостакович, обвиняемый в «антинародности» и «формализме», но тогда, к счастью, обошлось.)
Школьная тема, к которой переходит автор, закольцовывает список главных тем, связанных с городом: «…в его харьковских стихах она (94-я школа. — В. К.) и Конный рынок, все остальное — на втором месте» (с. 73).
Основная часть исследования заканчивается разговором о харьковских друзьях Слуцкого — Михаиле Кульчицком, Льве Лившице и др. — и причинах, по которым он бежал из Харькова: «...это не будет связано с Украинским Возрождением, уже расстрелянным, а со следующим витком репрессий» (с. 85). Слуцкий и правда спасся (того же Лившица обвинили в космополитизме и дали 10 лет лагерей): «…от судьбы стать <…> репрессированным в качестве “безродного космополита” его спас отъезд в Москву» (с. 96).
Вторая половина книги посвящена харьковским стихотворениям Слуцкого, «сначала из книг (с указанием), составленных самим Слуцким или Болдыревым <…> затем <…> из журнальных и прочих публикаций» (с. 108).
В качестве дополнения автор поместил в конце два эссе: «“Время” — “бремя”. Базар» и «“Ракло”», в которых пишет о времени и памяти в текстах Слуцкого и специфичном харьковском словце, значившем «хулиган» или «вор» (так называемое «бурсацкое арго» — язык студентов) и проникшем в десятки — не только слуцких — текстов.
Книгу дополняют вкладка с картой Харькова 1914 г. и планом города 1938 г. (Краснящих указал места, связанные со Слуцким), а также подборка фотографий сохранившихся ныне зданий, где жил, учился или куда приходил в гости юный — уже тогда не советский, а Слуцкий — поэт.
Владимир Коркунов
Пауэр К.Ю.
Структура художественного пространства в русской рок-поэзии: Александр Башлачев, Егор Летов, Янка Дягилева.
М.: Выргород, 2020. — 384 с. — 700 экз.
Методология книги — мотивный анализ, основанный на структурно-семиотическом подходе. Несмотря на простоту, он позволяет получить небесполезные результаты. Например, у Башлачева выявляется готовность пространства его героя слиться с внешним миром (с. 17), связь тепла и пустоты (с. 15). В произведениях Башлачева обнаруживается «замкнутость границ России, несмотря на масштабы ее территории» (с. 26), потому в ней и оказывается тесно, несмотря на кажущийся простор. Движение там если и есть, то не имеет смысла. «“Хоть налево, хоть направо” — это своего рода маятник, характеризующийся бессмысленными движениями и отсутствием пути» (с. 28), переживание широты пространства — и его одновременной однородности и закрытости. Причем герой Башлачева предпочитает оставаться на земле, понимает, что тут тесно, но в небо не бежит — оно слишком холодное.

Интересна смена субъектов и объектов у Летова: «…земля, небо и солнце исследуют бытие, наблюдают за пассивными лирическими героями» (с. 143). Природа активна, человек и общество пассивны. Причем у самого Летова на примере вариантов песни «Я летаю снаружи всех измерений» 1984 и 2007 гг. отмечается снижение роли политико-социального протеста, смена «панковского» концепта на психоделический (с. 109). Расстояние между высоким и низким у него даже не отсутствует, а просто не имеет значения. В итоге «объекты становятся низменными, одинаково неважными» (с. 81).
Город у Летова одновременно суетен и статичен (с. 75). Замкнутость дома у Летова — одновременно защита и удушье. Дом заброшен — как заброшен герой Летова. «Дом противопоставлен полю (которое, возможно, является пространством смерти)» (с. 80). У Летова тесно связаны образы дома и тела (с. 94), причем «как дом является гробом для тела, так тело является гробом для души» (с. 103). Закрытое пространство соотносится со смертью души, а открытое со смертью тела. Логично, что если дом соответствует смерти, то человек уходит из него в самоубийство.
Но чем сложнее тексты, тем менее работает мотивный анализ. Образ Дягилевой «листва упала пустым мешком» соотносится только с «резкой сменой времен года» (с. 153), но не с пустотой. В тексте «Декорации» Дягилевой Пауэр обнаруживает «абсолютно закрытое пространство» (с. 154), но если есть сцена — она как минимум разомкнута на того, кто на нее смотрит. «Образ ключей вносит в локус лес символику образа дома» (с. 153), но ключи могут быть и от тюремной камеры. «Камни с короны», «два высохших глаза», «скользкий хвостик корабельной крысы», «пятая лапка бродячей дворняжки» из песни Дягилевой «Полкоролевства» характеризуются Пауэр как «абсолютно ненужные и бесполезные предметы» (с. 169), об анализе мира, который создается ассоциациями, порождаемыми этими образами Дягилевой, речь не идет. Когда Пауэр отклоняется от «рельсов» мотивного анализа, она порой делает интересные наблюдения, например соотносит строку Дягилевой «сорви парик и почуешь дым» с горящей на воре шапкой (с. 200). Но это происходит нечасто. Мотивный анализ порождает много очевидных наблюдений, которые автор исследования просто регистрирует. «В поэзии А. Башлачева поле является позитивным открытым просторным пространством» (с. 9), «небо является символом веры и надежды» (с. 11), коммунальная квартира сопоставляется с болотом (с. 19 — кто только не говорил о болоте быта). Любимая у Башлачева сопоставляется с небом (с. 10), но это общеромантическое клише. Оппозиция «внутренний (свой, маргинальный мир) / внешний (чужой мир — государство)» (с. 158) у Дягилевой более чем очевидна, как и связь мотива ухода с мотивом смерти (с. 221).
Исследователь порой сильно упрощает автора, лишает его оттенков, внутренних напряжений и противоречий. «Пространство в поэзии А. Башлачева может быть двух типов: закрытое горизонтальное (бытовое, негативное, тупиковое, бесцельное) и открытое вертикальное — небесное, путь развития, поиска истины» (с. 28). Но до этого сама Пауэр говорила о тепле дома и холоде неба у Башлачева, значит, противопоставление не столь однозначно. Ис небом не все так просто, если у Башлачева оно порой «как эмалированный бак / с манной кашей» (с. 52). И всегда ли бессмысленно у Башлачева пространство быта (с. 67), если ему хочется замесить тесто? Пауэр отмечает, что у Башлачева «понятия свобода и несвобода становятся амбивалентными» (с. 34), тут бы продолжить, но следует только очевидное: «…открытое пространство соотносится с понятием свободы, а закрытое — с несвободой» (с. 34). Видимо, Башлачев отличал СССР как закрытое пространство и Россию — как открытое (с. 35). Но как быть с утверждениями Башлачева о том, что «в России весь народ живет одинаково скучно» (с. 38), со сближением России и СССР в строках вроде «однозвучно звенит колокольчик / Спасской башни Кремля» (с. 48)?
В исследовании Пауэр слишком мало вопросов. Отчего происходит разрушение дома у Летова? От внешнего? Тогда какого — социального или природного («солнечный зайчик взломал потолок»)? От внутреннего — действия героя? Обнаруживая в песне Летова «Снаружи всех измерений», что разум плачет по неубитой душе, Пауэр отмечает очевидную оппозицию «разум/ душа» (с. 116), но не задается вопросом, зачем плакать по неубитой. Для Летова «внешний мир является источником непонимания и угрозы, вплоть до смерти» (с. 90). Причем угрозой оказывается не только социальное, но и природное («мне страшно, что трава растет», пишет Летов). Как тогда оказывается, что «домом лирического героя после смерти становится природа» (с. 100)? У Летова «выход из дома равен выходу из тела» (с. 106), но Пауэр писала, что смерть тела у Летова положительна, а смерть души отрицательна (с. 80) — о каком равенстве тогда идет речь? У Дягилевой, по мнению Пауэр, «путь с обязательным возвращением носит позитивный характер, так как лирический герой ищет убежище от внешнего “чужого” мира» (с. 235), но как быть с мотивом пути «домой» у Дягилевой, как пути к смерти?
Интересно было бы сопоставить исследуемых авторов. Так, у Летова открытость дома связана с его разрушением (с. 73), а у Башлачева — с открытостью дверей для всех желающих прийти в гости (с. 13). Но таких сопоставлений в исследовании практически нет. За круг исследуемых авторов Пауэр также не выходит. Например, в мотиве презрения к телу Летов странным образом совпадает с христианской культурой, но это остается без внимания. В ряде случаев с автором книги трудно согласиться. Строки Башлачева «жрали снег / с кашею березовой» характеризуются Пауэр как «трудные для выживания природные условия» (с. 54), но березовая каша — розги — не природное явление. «Железный Феликс», улыбающийся с портрета в песне Дягилевой «По трамвайным рельсам», — едва ли портрет революционера и символ протеста (с. 245), гораздо более он похож на символ карательной системы. Новые книги «Концептуализьм» (так, с мягким знаком) из текста Летова и Кузи Хо — концептуализм скорее в смысле Д.А. Пригова, чем когнитивной психологии (с. 277). Книга, видимо, должна служить задачам популяризации и не испугать непривычного к филологии читателя. Так, обзор литературоведческих подходов и литературы по теме отнесен в конец, нередки популяризирующие пояснения вроде «семиотика — наука о значении знаков и знаковых систем» (с. 263—264). При этом далеко не все упоминаемые в обзоре авторы, анализировавшие пространство, имеют отношение к исследуемым рок-поэтам. Так, для П. Флоренского пространство, как и все бытие, — результат мышления человека. Для Башлачева, Летова, Дягилевой — это объективно существующая среда, из которой не вырваться. Но эти вопросы в исследовании не поднимаются. Ценность представляют большие библиографические списки по теме. Характерно, что по Летову список занимает 65 страниц, по Дягилевой — только 17. Даже это отражает немалый уклон Е. Летова в сторону более массовой культуры.
Александр Уланов