Журнальный клуб Интелрос » Отечественные записки » №3, 2012
Социальные изменения в странах бывшего Восточного блока наиболее отчетливо проявляются в городах. Именно города стали опытным полем и лабораторией для переходного процесса, качественно преобразившего условия повседневной жизни в этом регионе. Особенно заметны перемены во внешнем облике городов, но если присмотреться, можно различить и перестройку городской структуры. Исследователи расходятся в оценке этих изменений: то, в чем одни склонны видеть возрождение идеи полиса, наступившее после долгих десятилетий господства бюрократического социализма советского типа, другим представляется лишь воспроизведением привычного набора характерных черт капитализма. Скажем, кто-то оплакивает превращение Праги, одного из самых старых и своеобразных столичных городов Центральной Европы, в подобие Диснейленда, служащего приманкой для глобализированного туризма, а кто-то, напротив, радуется, что Прага перестала быть такой грязной, запущенной и бесцветной. Сразу же замечу, что в предлагаемом далее анализе я, не упуская из виду негативных явлений — экспансии личного и общественного транспорта, спекуляции земельными участками, разрастания городской территории, — тем не менее прихожу к общей позитивной оценке перемен последних лет, к тезису о возрождении бывших социалистических городов как особого социального и культурного мира. Революция в странах Центральной и Восточной Европы привела не только к раскрепощению гражданского общества, но и к революционному преобразованию городской среды, стала началом глубокой реурбанизации этой части континента.
Тезис о возрождении городов обосновывается мной в четырех разделах.
Первый раздел. Я начинаю с феноменологии. Что сегодня особенно бросается в глаза во время посещения городов бывшего Восточного блока и какие вопросы возникают при этом применительно к нашей теме?
Второй раздел. В общих чертах описывается судьба городов интересующего нас региона в XX веке. Не обозначив эту отправную точку, не предложив исторического обзора ситуации, мы не сумеем придать нашему анализу достаточную доказательность.
Третий раздел. Переходя к более систематическому анализу, я пытаюсь выделить основные элементы трансформации городов бывшего Восточного блока.
Четвертый раздел. Важны не только отдельно взятые города, но и их совокупность, роль и значение городского, гражданского начала в новой Европе, складывающейся в ней сети городов. В этой связи я делаю две заключительные ремарки.
Что сегодня особенно бросается в глаза во время посещения городов бывшего Восточного блока и какие вопросы при этом возникают применительно к нашей теме? Наиболее убедительные доказательства того, что происходящие перемены носят фундаментальный характер, можно собрать в ходе личных поездок (вне зависимости от того, какие города и в каком порядке посещать)[1].
Отступление. Признаюсь честно: больше всего я хотел бы описать, причем «со всей доскональностью», одну из моих собственных поездок, дать что-то вроде разбора репрезентативного частного случая, изложить результаты полевого исследования, проведенного в городе, которым я много занимался и который изучал не один месяц. Речь идет о Санкт-Петербурге. Вообще говоря, в трансформации столь важного и крупного центра должны обнаруживать себя все интересующие нас явления: десоветизация, разгосударствление, усиление городской автономии, разрушение старой и становление новой идентичности, новый урбанизм и т. п. И действительно, во многих отношениях данный пример является показательным, поскольку Петербург, остававшийся на протяжении долгих лет более или менее закрытым городом с периферийным и приграничным статусом, сейчас превращается в город открытый, да еще и возвращает себе функции морского порта со всеми вытекающими отсюда следствиями — событие, поистине беспрецедентное для закрытого пограничного города, каким на протяжении почти всего XX века был Ленинград[2]. Такой разбор потребовал бы учета многих обстоятельств. Следовало бы специально прокомментировать тот факт, что бывшей столице, в настоящее время насчитывающей почти пять миллионов жителей, в советское время была уготована судьба провинциального города; уделить особое внимание обветшанию Петербурга, материальному и моральному износу, необходимости структурной перестройки городской промышленности (в дальнейшем многое будет зависеть от того, как городом будут руководить, обзаведется ли он наконец «добрым правлением», которое сумеет уловить веяния времени и грамотно распорядится городским культурным капиталом). Желательно было бы также показать, как недостаток города — положение на советской периферии — может стать достоинством, поскольку теперь он находится на западной границе России, можно сказать, у ворот Евросоюза, рядом с его внешней границей (до Выборга или Нарвы от Петербурга — два часа езды на машине). Нельзя было бы обойти стороной и то, как чудовищно медленно происходит оздоровление города (замечу, однако, что оно все-таки происходит: разговоры о «потемкинской деревне» в связи с празднованием его трехсотлетия не соответствуют действительности). Петербург представляет собой наглядный и в то же время противоречивый пример «камбэка» восточноевропейских столиц и трудностей, которые они при этом испытывают[3]. Однако подобное феноменологическое, физиономическое и репрезентативное исследование в рамках настоящей статьи дать невозможно — во-первых, из-за недостатка места, во-вторых, потому, что судьба Петербурга не покрывает всех других случаев. Вот почему я вынужден отказаться от этого привлекательного для меня подхода к теме и перейти к более абстрактному методу, опирающемуся на ряд тезисов и типологический анализ, который позволяет их обосновать[4].
Закрытые города стали открытыми. В настоящее время не нужно прилагать особых усилий, чтобы попасть в столицы восточноевропейских государств. Мы практически забыли, что в прошлом эти города были почти недоступны, прятались за толстыми стенами бюрократических въездных процедур, которыми их окружили власти. Сегодня почти все города на востоке Европы открыты для свободного посещения: чтобы оказаться там, достаточно сесть в самолет или поезд. В них сложилась инфраструктура, необходимая для приема гостей из-за рубежа, — туристические фирмы, гостиницы, прокат автомобилей и т. п. Можно беспрепятственно перемещаться и по территории страны. Трудно поверить, что совсем недавно огромные города-миллионники — например, Горький, Калининград, — а также целые области величиной со Швейцарию или Бельгию оставались запретными зонами (в некоторых случаях они после непродолжительного «интермеццо» стали таковыми вновь). Замечу, что эта проблема — открыт город или, наоборот, закрыт — важна не только в аспекте международного туризма: от ее решения зависит и внутреннее устройство города. Закрытость является по существу отрицанием самой природы города, своего рода чрезвычайным положением, которое, затягиваясь на длительное время, приводит к вырождению городов, к их смерти[5].
Ускорение. Города Восточной Европы стали зонами высоких скоростей. Ускорение городской жизни тоже обусловлено фундаментальным характером происходящих перемен. Все устройство города, вся его «экономия» — не только экономика в узком смысле слова, но и культурный, нравственный уклад, — в настоящее время коммерциализованы, во главе угла лежат деньги. Время подлежит учету, время подлежит оплате... Время — деньги, как в любом городе капиталистического мира. И прежде всего это выражается в новых средствах транспорта и коммуникации. Города не справляются с автомобильным бумом последних лет. Движение дезорганизовано. Правда, перед магазинами больше не выстраиваются очереди из машин, но на улицах то и дело можно видеть заторы, аритмичное движение, «топтание на месте».
Индивидуализация. Раньше в восточноевропейских городах можно было довольно точно определить, кто есть кто и откуда приехал. Теперь сделать это так же трудно, как и в любом другом городе. Иностранца не сразу отличишь от местного жителя. Дресс-код, манера поведения, образ жизни, тип жестикуляции — ни один из этих критериев больше не может служить надежным ориентиром. Различение переместилось на уровень индивидуальности: теперь все зависит от личного стиля и в конечном счете — от личного дохода. Индивидуальность, прежде прятавшаяся за стилевым однообразием или конформизмом, выглянула наружу, вне зависимости от того, о чем идет речь: рекламе, одежде, доме, интерьере и т. п. Ради индивидуализации многие готовы не считаться с издержками, предпочитая, например, часами стоять в пробках — только бы избежать ежедневного стресса, связанного с поездкой в метро.
Строительный бум и трансформация городского пространства. Наиболее зримый признак перемен — оживленное строительство, какого, вероятно, не видели со времен сталинских генеральных планов 1930-х годов и послевоенных лет, когда восстанавливались разрушенные города[6]. Активность в этой области проявляется как в строительстве новых зданий, так и в реконструкции старых. Над деловым кварталом Варшавы, над Москвой растут высотные дома. Во всех крупных восточноевропейских городах построены новые торговые центры и бизнес-парки. Города обновляются и перестраиваются в соответствии с растущими запросами в сфере бытового обслуживания, потребления и индустрии развлечений. Еще никто не предпринял попытки осмыслить и описать этот революционный процесс с позиций внешнего наблюдателя: показать, что происходит, когда население 12-миллионного города дружно начинает менять все элементы своего жилья: скверные окна, двери, лифты и т. п., отправляя в утиль целую эпоху (опыт куда более масштабный, чем соответствующие перемены 1960-х годов в Западной Европе)[7].
Поляризация. Благополучные и неблагополучные городские районы теперь выделены более четко, чем прежде; границы, отражающие это новое классовое расслоение и социальную сегрегацию, обозначились вполне ясно. Престижными районами могут становиться как старые буржуазные кварталы или пригороды, застроенные особняками, так и новые экологически чистые предместья. Постепенно разные зоны «сращиваются», осуществляется переход к новой городской структуре, сменяющей прежние однородные неструктурированные аморфные «поля»[8].
Валоризация, ревитализация, демузеефикация. Земельная собственность обрела реальную и весьма существенную ценность. То, о чем в советскую эпоху и слыхом не слыхали, стало неоспоримым фактом: городская территория снова целиком и полностью валоризована, стоимость участков под застройку очень высока — настолько, что приобретать их могут лишь немногие. Земельные фонды городов буквально рвут на части, оттесняя друг друга, инвесторы, девелоперы, спекулянты. Ситуации при этом могут быть самыми разными, в зависимости от того, где находится участок — в центре или на окраине, обладают улица и квартал историческим лицом или лишены какого-либо своеобразия. Земельные маклеры хорошо осведомлены в истории и разбираются в вопросах инфраструктуры. С тех пор как государство и общественные организации оказались не в состоянии обеспечивать сохранность многих зданий и сооружений, стало ясно, что эти ценные объекты, содержание которых убыточно, должны быть возвращены в коммерческий оборот и приносить прибыль. Так исторически важные зоны, ранее бывшие для городской казны мертвым грузом, мгновенно стали самыми дорогостоящими и привлекательными участками на земельном рынке[9].
Трансформация городского пространства. Ситуация прямо зависит от того, конструирует город свое пространство самостоятельно или оно только используется как сцена, на которой разыгрывает представления государственная власть. Публичное пространство, сообразованное с потребностями власти, и публичное пространство, служащее саморепрезентации бизнеса, а порой и частных граждан, различаются коренным образом. Социалистический город устроен совсем не так, как город капиталистический. Первый не нуждается в банках и, соответственно, в особом квартале финансовых учреждений, второму необходимы и то и другое. Первому не нужны многочисленные гостиницы и рестораны, второй не может без них нормально функционировать. Первый размещает своих жителей в многоквартирных зданиях типовой застройки, второй — не только в них, но и в многочисленных частных домах и особняках. Первый предпочитает стадионы, второй — оздоровительные учреждения и центры фитнеса. Улицы первого служат прежде всего для общественного транспорта, второго — для массового индивидуального... Список различий можно продолжить. Поскольку город является лишь воплощением определенного социального организма, постольку и трансформация общественного пространства, происходящая в последние годы, отражает, причем довольно точно, превращение города — государственного учреждения в город — автономное образование[10].
Самореализация специфической городской природы, выдвижение ее на передний план. Культурная революция. Все, что сказано до сих пор, звучит слишком функционально, прагматично и, возможно, слишком тесно привязано к экономической проблематике. Между тем нельзя упускать из виду и внеэкономическую, внеплановую, строго говоря — нефункциональную сторону наблюдаемого развития, его свободно-игровой и даже авантюрный аспект. Жители городов в последние годы начинают чувствовать себя жителями своего города. Они неравнодушны к его красоте, озабочены его будущим, они идентифицируют себя с ним (или ненавидят его). Время равнодушия к собственному городу, к малому миру, который их окружает, безвозвратно ушло. Начинается — в новых условиях иначе и быть не может — совсем другая эпоха, когда люди гордятся своим городом и принадлежностью к нему. Эта гордость находит выражение во всевозможных торжествах, в особых городских праздниках и юбилеях, в новом отношении к истории города. Горожане наслаждаются новооткрытой областью специфически городского. Этот процесс становится актом самопознания города, его самоидентификации в качестве цивилизационного образования. Города вновь обретают субъектность. Они вновь обретают хозяина (показательно, что годы социально-политических перемен стали также временем, когда во главе городского хозяйства встали сильные и деятельные мэры). Более того, они вновь становятся хозяевами собственной судьбы. Трудно переоценить значение этого процесса для общества, где еще недавно политическая власть и центральная администрация монополизировали практически все стороны жизни.
Феноменологическое или, если угодно, физиономическое описание изменений, происшедших в городах Восточной Европы в последнее десятилетие, неизбежно требует анализа движущих и формообразующих сил, которые скрывались за этим процессом образования городов и которые управляют им и сегодня. Вопрос о том, какое обозначение выбрать для этих сил — буржуазия, буржуазное общество или гражданское общество, — я оставляю открытым. Для начала я хотел бы сделать еще один шаг назад, чтобы бросить взгляд на XX век и на то, что произошло за минувшие сто лет с городами Восточно-Европейского региона, — ведь именно то положение, в котором они оказались, стало отправной точкой для их теперешнего развития.
Очень трудно свести к общему знаменателю множество не похожих друг на друга городов, совершенно различные городские ландшафты. В самом деле, что общего у Риги и Одессы, Бухареста и Витебска, Вроцлава и Белграда, Ленинграда и Берлина, Лодзи и Праги?
Тем не менее имеет неоспоримое значение тот факт, что на карте все эти города находятся в границах Центральной и Восточной Европы. Иначе говоря, все они пережили одни и те же великие исторические события и несут на себе их отпечаток. Разумеется, отпечаток этот может быть более или менее глубоким. Иные города выглядят целыми и невредимыми, хотя на самом деле им была нанесена смертельная рана; иные умерли, но затем сумели возродиться и начали новую жизнь. Некоторые оказались стертыми с лица земли только потому, что были центрами силы; некоторые уцелели, поскольку были оттеснены стечением обстоятельств на периферию исторического процесса. Судьба европейских городов в пределах интересующего нас региона так же различна, как сами эти города. Но все же и здесь можно попытаться выделить какие-то общие черты, причем такие, которые сохраняют свое значение и в наши дни. Конечно, речь может идти лишь о схематическом перечне таких черт[11].
Города, уничтоженные во время войны. Многие города — в том числе самые большие и красивые — стали в XX веке театром военных действий, подверглись целенаправленному и систематическому разрушению с земли, с воздуха и с воды. Они воспринимались как вражеские укрепленные пункты и в силу этого подвергались беспощадному уничтожению: квартал за кварталом, улица за улицей, дом за домом стирались с лица земли, обращались в прах и пепел. Таким образом историческая непрерывность существования этих городов, выражающая себя в совокупности зданий и сооружений, была нарушена, пресечена. Для внешнего наблюдателя они фактически перестали существовать — по меньшей мере на какой-то исторически краткий момент. В это время тамошние жители ютились в погребах, землянках, ямах. К числу таких городов принадлежат Варшава, Минск, Витебск, Пинск, Сталинград, центральные районы Кенигсберга, Дрездена, Берлина, Хильдесхайма, Швайнфурта и т. п. Во многих случаях разрушение зашло так далеко, что возникал естественный вопрос: будут ли эти города когда-либо заселены вновь?[12]
Бесчисленные жертвы, разрыв поколенческой и культурной преемственности. Эпоха мировых и гражданских войн затронула рассматриваемый нами регион и находящиеся в нем пункты сосредоточения городского населения самым непосредственным образом — большинство жителей западноевропейских стран не отдают себе полного отчета в том, насколько глубокий след оставило здесь последнее столетие. Были вырваны и выпали из цепи нормальной преемственности целые поколения. Как следствие образовался разрыв буквально во всем: в передаче житейского опыта, обычаев, стиля поведения; мы вправе говорить о настоящей исторической аномалии. Социальные и культурные издержки, сопряженные с подобным разрывом, исчислить намного труднее, чем дать случившемуся нравственную оценку[13].
Обезлюдевшие города. В этом регионе существует ряд городов, которые на первый взгляд практически не пострадали: Львов, Черновцы, Лодзь, Жешув, Рига, Лиепая, Вильнюс, Каунас, Шауляй, Гродно, Нови-Сад и многие другие. Однако не пострадали в них только здания: люди, некогда жившие в этих нетронутых стенах, исчезли, были уничтожены в лагерях, задушены газом, погребены в общих могилах. В результате этих насильственных действий состав городского населения претерпел качественные изменения. Если не ограничиваться чисто статистическим подходом — то есть общей численностью жителей, — то следует говорить об изменениях прежнего социального, культурного, психологического и тому подобного равновесия. Естественный баланс здесь был нарушен, опрокинут грубой силой. Эти внешне целые и невредимые города на самом деле — если говорить об их населении — остались лежать в руинах[14].
Сегрегация в городах: социальные и этнические чистки. Если города и вправду можно считать продуктом «кристаллизации цивилизаций», как их описывают Николай Анциферов и Льюис Мамфорд[15], то лишь потому, что они представляют собой небывало тесное переплетение человеческих сообществ. В городе встречаются и сливаются в единое целое различные культуры, этносы, конфессии, языки, уклады, обычаи, образуя своего рода «коллективный артефакт». На этот социальный артефакт, созданный совместным трудом многих поколений, в эпоху национализма и социального радикализма/коммунизма оказали воздействие разрушительные силы, притязавшие на «сверхчеловеческую» роль. Города, какими они были в 1914 году, к концу существования многонациональных империй не устояли под натиском этих сил и были уничтожены в своем прежнем качестве[16]. Попытки «избавить» города от всего, что не вписывалось в заранее заданную модель однородного и герметичного мира, который хотела построить новая власть, выразились в безумии классовых и этнических чисток. В результате города стали местом тотального и в ряде случаев практически перманентного процесса выбраковки по тому или иному критерию. Национализм исходил из идеи города как этнически гомогенного образования, коммунизм — как социально гомогенного. Там, где раньше пространство было мультиэтнич-ным, оно упростилось и стало моноэтничным; там, где оно было социально дифференцированным, в нем попросту не осталось места для определенных социальных групп. Везде, где эти два процесса влияли друг на друга и действовали совместно, возникло в конце концов пространство, однородное и в этническом, и в социальном отношении. Этот процесс длился приблизительно три десятилетия — с 1914 по 1945 год. Его следствием стала растянувшаяся почти на век деградация, обеднение городской среды. Центральная и Восточная Европа была, с этой точки зрения, полностью «зачищена» и превратилась в tabula rasa уже к началу послевоенного конфликта между Востоком и Западом. Иначе говоря, вырождение городов Восточной Европы началось вовсе не тогда, когда в ней распространил свою власть коммунизм. Напротив, если не учитывать «тридцатилетнюю войну» 1914—1945 годов, не брать в расчет взаимное наложение мировой и гражданской войны в странах этого региона, невозможно понять и последующую эпоху: 1945—1989 годов. Поясню свою мысль. Этнические чистки и разрушение основ гражданского общества идут рука об руку, они взаимно обусловливают друг друга. Истребление евреев и резкое ослабление буржуазного начала в Европе — две стороны одного и того же процесса. Бегство жителей из страны и эмиграция обескровили потенциал городов и в России, и в Центрально-Европейском регионе. Тоталитарная власть просто не могла бы укрепиться, если бы с ожесточением не вытравливала саму субстанцию гражданского общества. Установление коммунистического режима сталинского образца в Восточной Европе едва ли было бы возможным, если бы перед тем не были разорены города, сначала пострадавшие от оккупации и террора, а затем — от бегства значительной части жителей. Во всяком случае это существенно облегчило задачу, стоявшую перед коммунистами. Гражданское общество в этих странах, как бы ни настаивали на противоположном некоторые участники подполья и противления, в основном было разрушено еще до прихода коммунистов к власти[17].
Модернизация и гиперурбанизация. В первой половине XX века Восточная Европа стала также местом неслыханного социального переворота, который называют по-разному: «модернизация», «индустриализация», «урбанизация». В это время здесь совершался переход от традиционного аграрного общества к индустриальному, со всеми последствиями, которые такой переход подразумевает. То, как этот переход осуществлялся — рывками, скачкообразно, на фоне острой социальной напряженности и глубоких потрясений, — привело к чудовищным деформациям, следы которых не стерлись по сей день. Средний человек на Западе и сейчас не вполне осознает, что «догоняющая модернизация» в странах Восточной Европы была сопряжена с теми явлениями, которые в западноевропейских странах были отрефлексированы и достаточно быстро устранены уже на заре индустриализации и урбанизации, — массовым разорением крестьянства, бегством из деревень и переселением в города, масштабными миграционными процессами, стремительным переходом целого общества к скитальческому образу жизни... Результаты не замедлили сказаться: опустевшие села, заброшенные поля, трещащие по всем швам города, построенные на голом месте заводы, скудная минимальная инфраструктура, землянки и бараки в качестве массового жилья, перенаселенность обычных городских квартир, кошмарные гигиенические условия, сравнимые с теми, какие мы знаем сегодня по кварталам трущоб в странах третьего мира, двукратное, а то и трехкратное увеличение численности населения в старых городских центрах и, наконец, исчезновение и разложение прежних базисных социальных слоев, влекущее за собой деградацию в области культуры (гибель традиций, размывание культурных стандартов, слом цивилизационных навыков и т. п.)[18].
Деурбанизация и рурализация. Эти процессы нельзя рассматривать абстрактно и с чисто количественной точки зрения, сводя их к росту иммиграции из села. Скорее здесь следует говорить — сверяясь с объективной реальностью, а не с замыслами планировщиков-администраторов, которые, разумеется, также имели место, — о разложении городов, угасании специфической городской среды, выветривании гражданского и урбанистического начала — словом, полном упадке всего, что накапливалось многими поколениями и кристаллизовалось на протяжении веков. Моше Левин писал об «обществе зыбучих песков», где село засасывает город, о «рурализации» городов. Давид Хофман назвал свое исследование Москвы 1930-х годов «Крестьянская столица»[19]. За словом «город» в данном случае скрывается результат сложных метаморфоз, и мы должны об этом помнить. Города, захлестнутые массовыми потоками крестьян-переселенцев, усваивают культуру и обычаи деревни, сами же крестьяне при этом постепенно превращаются в рабочих. Миллионы людей усваивают межеумочные гибридные формы существования, и возникающий социальный тип начинает доминировать в городах Восточной Европы — он, конечно, характерен и для других стран с переходной экономикой, но здесь представлен особенно ярко, поскольку крестьянская миграция сталкивается в этом регионе с высокоразвитой городской культурой. Рурализация городов — в России 1920-х, 1930-х и 1940-х годов, в послевоенной Польше, балтийских странах и государствах Юго-Восточной Европы, где установилась коммунистическая власть, — одна из самых драматичных страниц городской жизни, какие видела история.
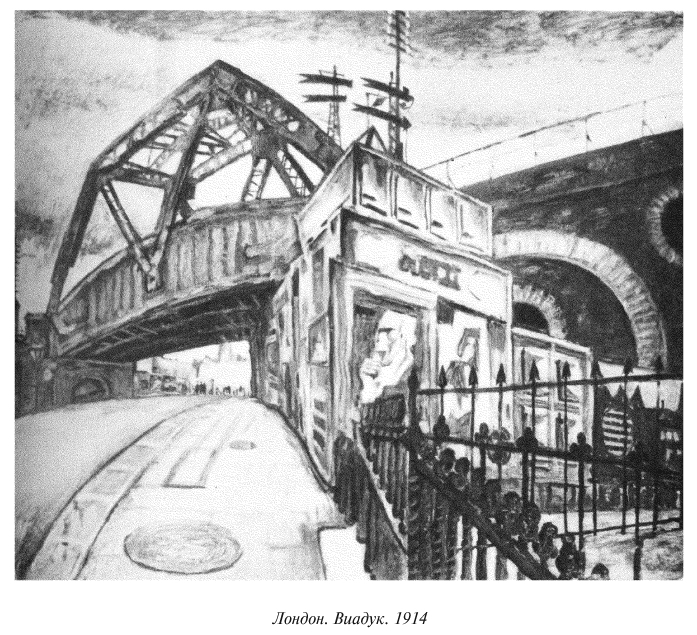
Крах цивилизационных норм, бюрократизация. Крестьяне, которых принесла в города волна миграции, были чужды городу, не привыкли к его укладу и еще не прошли необходимой аккультурации; неудивительно, что они полностью разрушили институты буржуазной жизни, буржуазной культуры, буржуазного самоуправления. Город предреволюционных лет взрастил собственные элиты, и возглавляемые ими «учреждения» на рубеже веков были близки к превращению в саморазвивающиеся и самоуправляемые организмы. Конец XIX века — время резкого улучшения деятельности коммунальных служб и их структуры. Далеко идущие инициативы по урбанизации — превращению малых городов в большие, спальных кварталов в торговые и промышленные, с внушительной инфраструктурой, которая впечатляет и в наши дни (школами, больницами, газовыми заводами, скотобойнями, канализацией, транспортной системой, почтой, телеграфом и т. п.), — были бы невозможны без опоры на мощную, самостоятельную и энергичную буржуазию. В послереволюционных городах этот двигатель прогресса исчезает. Его место занимают, с одной стороны, коммунистические руководители-бюрократы и с другой — народные массы. Командная экономика и мобилизационная диктатура находятся в самом близком родстве. Вообще диктатура невозможна без «массы» — бесструктурной, аморфной, недифференцированной и не консолидированной путем согласования групповых интересов. Спору нет, диктатуры, ставившие перед собой просветительские и воспитательные цели, внесли вклад в то, что называется «цивилизацией», — прежде всего в ликвидацию безграмотности. Однако цивилизация не тождественна цивильности; технические навыки и образование вовсе не обязательно — во всяком случае в среднесрочной перспективе — идут рука об руку с гражданским обществом. Модерность не обеспечивается технической модернизацией. (Впрочем, стоит оговориться: общества модерна, не принадлежащие к западному типу, до сих пор анализировались и описывались не как самостоятельный проект, а только применительно к «модерну как таковому» — то есть как раз западному[20].)
«Соцгород» как город для пролетариата. Как известно, во всех странах, где осуществлялись революционные социальные преобразования, возникали масштабные проекты, ставившие целью выработать новые формы жизни и производства. Наиболее известный из таких проектов — социалистический город («соцгород»)[21]. В этом городе предполагалось переустроить буквально все: придать новый характер не только публичному пространству, но и жилищу (кухне, спальне и пр.), разделению на зоны производства и отдыха, транспортной системе, системе вентиляции и т. д. Соцгород — это реализация социальной утопии, скроенной в соответствии с потребностями революционного класса. Трагедия заключалась в том, что людей, которые могли бы стать носителями таких форм жизни (иначе говоря, адресатом проекта), как правило, в этот момент — уже или еще — не было в наличии. В ходе социального переворота — по крайней мере в ходе русской революции — вместе с буржуазией погиб и пролетариат. Оба этих класса были результатом капиталистического развития, оба были детищами модерна. Образование классов, вызванное разложением традиционного общества, было важнейшим достижением капитализма во всех странах, включая и восточноевропейские. Однако это новое деление общества оказалось хрупким, неустойчивым и не выдержало глубоких социальных потрясений начала века. Крестьяне, вернувшиеся с мировой войны и гражданской войны, поспешили домой, чтобы участвовать в разделе земли. Рабочий класс, сформировавшийся на протяжении жизни двух-трех поколений, исчез вместе с промышленностью, поскольку заводы были остановлены или разрушены. Разложение рабочего класса — феномен, которому совсем не уделяют внимания. Между тем его исчезновение означало, что класс этот нужно было формировать заново. Это и произошло во время индустриализации 1920—1930-х годов. Новый пролетариат был создан быстро, без раскачки и почти с нуля. У него не было традиций, не было опыта борьбы за свои права, ему недоставало партнера — буржуазии старого типа, которая противостояла старому рабочему классу и обеспечивала его идентичность. Таким образом, соцгород — не говоря уже о том, что этот проект удалось реализовать лишь в крайне ограниченном объеме, частично и в считанных городских районах, — стал вовсе не городом рабочих, а населенным пунктом нового типа для социального класса нового типа (который, по-видимому, следует назвать «трудящимися»)[22].
Власть и публичное пространство. Власть преобразовала городские пространства, приспособила их к собственным нуждам, превратила в пространства власти. Процесс этот растянулся на десятилетия и осуществлялся с помощью вполне разумного, хотя порой насильственного вмешательства и внедрения в городской текст. Целенаправленно менялись функции и культурные коды площадей, зданий, особенно тех, которые были наделены высоким символическим значением: памятников архитектуры, церквей. Однако главный упор делался на преобразование масштабов и пропорций — ширины площадей, размера и объема строений. Насаждался своеобразный монументализм, ломавший привычные соотношения и взаимосвязи. Эта трансформация была достигнута с помощью широкомасштабной и глубоко продуманной экспансии, реализованной посредством генеральных планов, а также в ходе отстраивания заново городов, которые сравняла с землей война (Минск, Сталинград, Гданьск, Варшава и т. п.). Нарушение обычных размеров и пропорций порождает наиболее трудноразрешимую проблему в наши дни — примером тут могут служить разрывы между основной городской застройкой и выпадающими из нее изолированными небоскребами в Москве, Риге, Варшаве, Бухаресте. Вопрос о том, как интегрировать эти здания в городскую среду, в последние десятилетия вызвал крайне интересные и ожесточенные дискуссии[23].
Обесценивание земли. Национализация земли и ее недр, упразднение частной собственности не только на средства производства, но и на жилые и нежилые помещения — все эти меры буквально выбили почву из-под ног субъектов общественной жизни. Городская земля лишилась стоимости, обесценилась. Формально, в рамках общественно-государственной репрезентации, земля объявлялась общедоступной, но на деле ею, естественно, распоряжалась горстка избранных, номенклатура, — как эту социальную группу ни называть. Отныне не осталось возможности для сопротивления: силам, хотевшим защитить частную жизнь и достоинство индивида, с отменой земельной собственности стало некуда отступать. Культурные последствия отмены частной собственности носят основополагающий характер и, несмотря на всю критику коммунистического учения, исследованы до сих пор лишь самым поверхностным образом. Здесь мы имеем дело с таким фундаментальным процессом, как исчезновение всевозможных видов ответственности, обязательности и компетентности, а значит, и с выхолащиванием культурных форм, глубинных матриц и процедур, которые определяют воспитание людей и их повседневную жизнь. Рождающейся новой экономике без частной собственности отвечает культура безответственности и выхолащивания. Ее описывает немудреная формула: там, где все принадлежит всем, на деле ничто не принадлежит никому. По существу мы имеем дело с землей, у которой нет хозяина. Его место занимает власть, никак не опосредованное владычество. Над пространством социалистического города постоянно тяготеет угроза опрокинуться в полную аномию — для этого достаточно, чтобы власть, защищающая это бесхозное пространство, рухнула или просто поколебалась, ослабив хватку[24].
Публичное и приватное пространство. С разложением буржуазно-гражданского общества стирается и различие между общественным и частным[25]. В этом и заключалась цель революционного переворота: овладеть последним бастионом приватности. «Не существует ничего вне политики» — боевой девиз, который даже глубоко личные, сокровенные движения души подчиняет публичному дискурсу и публичной легитимации. Впрочем, помимо прекраснодушных, восходящих к Гегелю и Марксу обоснований необходимости снести перегородки между публичным и приватным существует и более грубое, о котором чаще всего не говорят: обычная горькая нужда, а то и крайняя нищета. Восьмикомнатные квартиры, в которых вольготно размещались буржуазные семьи, утратили свою легитимность перед лицом наводнивших город крестьянских масс, ютившихся в землянках и бараках. «Черный передел» жилищного фонда в годы революции и Гражданской войны выглядел абсолютно «нормальным», хотя и был связан с попранием законности, унижением человеческого достоинства, насилием. Представители разных поколений, вынужденные жить под одним кровом, в одной квартире, а подчас и в одной комнате, едва ли могут наслаждаться прелестями частной жизни. Все моменты жизни, от рождения до смерти — не исключая и самых интимных, — разыгрываются здесь перед чужими глазами[26]. Существуют специально обустраиваемые места, где различие между общественным и личным стирается: коммунальные квартиры, рабочие и студенческие общежития, общие вагоны, лестничные клетки, столовые, туалеты. Существуют и заведомо известные места, где исчезает даже та форма неполной публичности, которая делает жизнь в буржуазном обществе — или, скажем точнее, на Западе — столь приятной и удобной: диффузная, нейтральная, полуприватная сфера гостиничных холлов, ресторанов и кафе. История заката и возрождения кафе — если ее наконец кому-нибудь удалось бы рассказать — вообще представила бы в сжатом виде всю историю социализма и Восточного блока.
Город как «государственное мероприятие»[27]. Город, утративший своих субъектов и акторов, может сохранять жизнеспособность только благодаря сильной руке сильного государства. В особенности это верно по отношению к городам, которые обязаны самим своим существованием государственному акту — всем основанным на голом месте и стратегически важным населенным пунктам. Сюда относятся Магнитогорск, Новокузнецк, Норильск, Воркута, Нова Гута, Сталинварош и многие другие. Впрочем, это же можно сказать и обо всех остальных социалистических городах. Социализм нанес непоправимый урон автономии городов, которые стали так или иначе зависеть от центра, от места в иерархии населенных пунктов, от ассигнований на общественные нужды. В наши дни городам приходится учиться самостоятельности заново. Заново нужно создавать и органы самоуправления, исчезнувшие за годы социализма. Сегодняшние процессы в общем и целом можно охарактеризовать как обретение землей и городом настоящего хозяина (а не только господина).
Вывод. Что в конечном счете принес XX век городам Центральной и Восточной Европы? Для городской культуры он стал временем насильственного регресса и череды катастроф — можно сказать, веком градоубийства. Это слово довольно точно описывает ту разрушительную силу, которую таил в себе конфликт цивилизаций в XX веке. Может быть, именно градоубийство и служит самым безошибочным мерилом наблюдавшейся деградации — во всяком случае исключительно наглядным[28]. Можно даже описать рассматриваемый нами конфликт как столкновение городских и антигородских (деурбанизирующих) тенденций.
По правде говоря, то, что после череды катастроф города возрождаются, вновь пробуждаются к жизни, — настоящее чудо. Вспомним только, что творилось в них к моменту окончания войны. Нагромождение развалин в Сталинграде и Минске, груды земли на том месте, где некогда была Варшава, выжженный центр Кенигсберга, обгорелые остовы зданий в Берлине... Не все эти города смогли вернуть себе прежний статус, но все были вновь заселены и переживают новый расцвет, кажущийся поистине невероятным. Никто, находясь на нулевой отметке, не мог бы предвидеть столь блистательного возрождения. И пока мы не объяснили и не описали этот процесс, можно с полным правом называть случившееся чудом.
В первом разделе я уже сжато перечислил эти элементы: переход к открытости по отношению к внешнему миру и глобализация, ускорение темпа жизни и новая экономика, основанная на факторе времени, индивидуализация, строительный бум и новые формы строительства, поляризация населения, валоризация и ревитализация музеефицированного городского центра, трансформация городского пространства, наконец — новое самовосприятие города, поиск новой роли и идентичности, в конечном счете приводящий к глубокой культурной революции. Теперь нужно уточнить сказанное, в связи с чем возникает ряд вопросов. Пришли ли мы и в случае восточноевропейских городов к фукуямовскому «концу истории» — в том смысле, что сегодня они стали наконец такими же, как «наши» западные? Означает ли их «возвращение в Европу» просто-напросто усвоение стандарта, достигнутого на западе континента? Придется ли этим городам в дальнейшем заботиться лишь о смягчении или устранении определенных негативных эффектов (рост населения за счет экспансии в сельскую местность, транспортный коллапс, беспокойные пригороды и т. д.)? И столкнутся ли они со всеми теми проблемами, которые существуют «на Западе» и которые до сих пор не удается решить?
Ответа на эти вопросы я не знаю, но, по-моему, многое позволяет предположить, что силы гражданского общества будут действовать на востоке точно так же, как и на западе Европы, где они внесли важный вклад в становление и развитие демократии, и со временем города бывшего социалистического блока смогут сказать свое слово, обогатив общий дискурс о судьбе и будущем европейских городов.
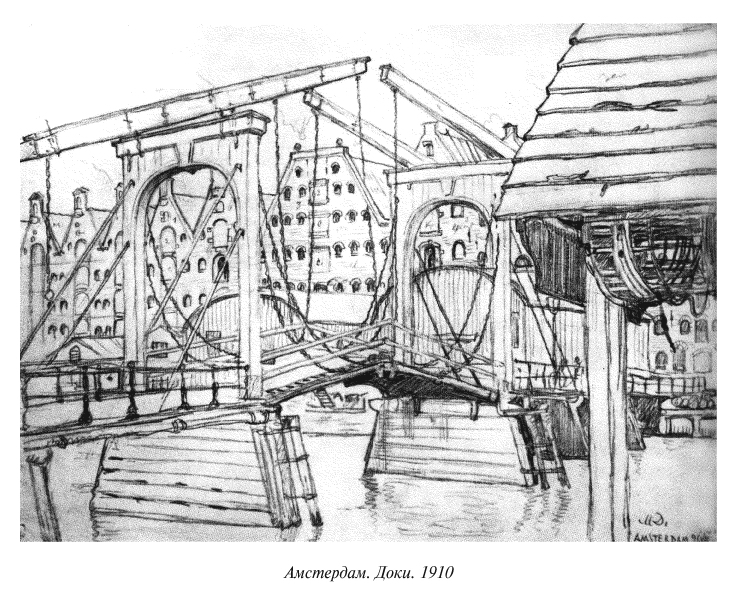
Уже давно стало ясно, что словосочетание «гражданское общество» само по себе может быть риторическим штампом, и нам следует употреблять этот термин более осмотрительно — прежде всего не вклеивать его без разбора к месту и не к месту. В каждой стране, в каждом городе ситуация конкретна и уникальна, в Праге она не такая, как в Петербурге, в Таллине — не такая, как в Бухаресте. Слишком неточно, слишком романтично было бы говорить о «сообществе горожан» там, где по-прежнему, несмотря на свободные выборы мэров, тон задают старые группировки, которые сохраняют рабочие связи и защищают единство интересов, сложившееся в предыдущую эпоху. «Гражданское общество», мне кажется, повсюду еще очень слабо, очень хрупко. Возможности подкупить его представителей, подчинить интересам власти, попросту одурачить, отвлечь малосущественными проблемами, маргинализовать всюду остаются достаточно широкими, хотя и различаются в каждом городе. Да, мы вправе говорить о том, что «город снова имеет хозяина», однако это еще не означает, что хозяином в нем непременно становятся «горожане», а всего лишь говорит, что здесь больше нет монополии на власть, монополии единственной партии или номенклатуры. Как бы то ни было, можно заключить, что в настоящее время город воссоздается заново в качестве жизненного уклада буржуазно-цивильного типа: мы наблюдаем как бы выращивание новых насаждений на тех местах, где XX век оставил деурбанизированные пустыни. Деурбанизация — самое точное название для растянувшегося на столетие процесса оскудения, радикальной сегрегации и радикального упрощения всех сторон жизни. Реурбанизация Восточной Европы, происходящая в наши дни, влечет за собой небывалый рост культурного богатства, культурной насыщенности, социальной и культурной сложности. Европе, можно сказать, потребовалось добрых полвека, чтобы вновь обрести сложность, которой некогда уже обладала ее городская цивилизация. О том, что это достигается не беспроблемным педагогическим методом, а так, как всегда бывает «в настоящей жизни», то есть в жестокой борьбе, где победы чередуются с поражениями, болезненными столкновениями и подлинными трагедиями, знает каждый человек, хотя бы немного соприкасающийся с реальностью. Вообще-то нам следовало бы вести постоянные полевые наблюдения в городах, которые в последнее время стали аренами явного или скрытого драматического противоборства. Скажем, строительный бум — признак вновь пробуждающегося предпринимательского духа, но в то же время, естественно, и духа спекуляции. Желание строить, похоже, более важно, чем формы, в которые отливается строительство. Часто строят для того, чтобы строить, а потом уже задумываются над тем, как строить. Воля к строительству преобладает над формообразующей силой: так, собственно, всегда и бывает во времена бума. Происходящее в строительном секторе служит довольно точным индикатором конкуренции, показателем хозяйственного и политического потенциала города. И в больших, и в малых городах можно видеть, что активность строителей направлена в первую очередь на создание объектов инфраструктуры — новых аэропортов, гаваней, вокзалов. Ясно прослеживаются и основные векторы перемещений жителей: внутренняя миграция устремлена либо в кварталы пригородных особняков, либо в лофты и отреставрированные старинные здания в центре. Возникают потребности в новых сооружениях: моллах, торговых центрах, автомобильных кинотеатрах, центрах фитнеса и оздоровительных учреждениях, кварталах с огороженной и охраняемой территорией. Мы наблюдаем образование новых классов, новую социальную и культурную сегрегацию. Растет спрос на новые типы сооружений — не промышленные постройки, а здания для учреждений сервиса и для «третьего сектора» (банков, всевозможных офисов, гостиниц, увеселительных заведений). Город должен справляться с быстрым ростом личного транспорта, ему нужны внутренние автострады, оснащенные всем необходимым: подъездными путями, тоннелями, шумопоглощающими стенами; нужно также подключить городские пути сообщения к международным трассам. Велика потребность в автостоянках и парковочных местах, в рациональном использовании внутренних территорий. Но прежде всего город нуждается в новой культуре уличного движения и автовождения. На мой взгляд, управленцы, осуществляющие эту грандиозную трансформацию, добились поразительного успеха. В Москве, Варшаве, Бухаресте, Будапеште и т. п. им удалось переключить столь сложный механизм, как город, из одного состояния в другое, заменив при этом почти все его элементы.
Видимо, нельзя утверждать, что последнее десятилетие стало временем движения за гражданские права, и называть его «историческим поворотом», однако можно с уверенностью сказать, что эти годы были десятилетием мэров[29] — как уже происходило в начале XX века, когда во главе крупнейших европейских городов стояли выдающиеся градоначальники: Армштадт в Риге, Третьяков в Москве, Хакен в Штеттине и многие другие (история совсем не случайно сохранила их имена). Мне это представляется вполне логичным: «управление переворотом 1989 года» было предметом большой политики, тогда как длительное переходное движение, начавшееся в новом веке, потребовало множества постепенных, небольших шагов на местах. И значительную часть этой работы по улучшению «малого мира», окружающего горожанина, еще предстоит выполнить живущим сейчас поколениям.
Не выглядит ли набросанная картина несколько упрощенной, даже наивной? Не упустил ли я из виду натиск глобализации, которая захлестывает Европу? То, что сказано выше о городах Восточной Европы, вполне применимо и к европейскому городскому ландшафту в целом. На наших глазах осуществляется реконфигурация системы европейских городов. Возникает новая сеть городов, которая, вне всякого сомнения, связана во многих отношениях со старой сетью, существовавшей до раздела континента. Если согласиться с тем, что города были главной ареной недавних перемен, открывших путь к гражданскому обществу, и что в дальнейшем именно им предстоит стать узловыми точками и несущими опорами новой, «цивильной» Европы, окончательно преодолевшей этатизм, то взаимосвязь таких городов, сеть, которую они образуют, имеет исключительное значение. В этой связи сделаю два заключительных замечания.
Во-первых, в ряде городов концентрируются все процессы, характерные для второго модерна, или постмодерна. Здесь вызревает транснациональное, континентальное, межконтинентальное время цивилизационного единства. Постепенно становится не так важно, где человек живет: в Берлине или Варшаве, Москве или Лондоне. Во всяком случае стереотипы образа жизни, средства и формы коммуникации, скорость распространения информации и т. п. для всех жителей подобных городов более или менее одинаковы. В складывающихся тем самым «столичных коридорах» утверждаются наиболее актуальные дискурсы, развиваются важнейшие социальные и экономические процессы[30]. Такие коридоры становятся для новой Европы связующими осями, роль которых более существенна, чем политические союзы между государствами и их правительствами.
Во-вторых, наиболее значимая граница пролегает сегодня не столько между территориями национальных государств — например, между Германией и Польшей, — сколько между «столичным коридором» и «нестоличным коридором». Она обозначает новый разлом, новую дихотомию, более того — противостояние между городом и селом, между зонами высоких скоростей и зонами замедления, застоя, а порой и регресса, между сверкающей роскошью и беспросветным мраком. Именно тут намечается столкновение цивилизаций, которое не выглядит неотвратимым в более привычных конфликтных ситуациях, описанных Сэмюэлем Хантингтоном. Именно тут, возле «цифрового барьера», возникает опасное трение, способное в будущем высечь искру острого конфликта. Уже сегодня можно сказать, что такая столица, как Москва, по отношению к остальной России предстает городом с другой планеты, городом-государством со своими собственными порядками, цивилизационным уровнем, жизненным укладом, своим повседневным ритмом и горизонтом ожиданий. Порой контраст между двумя мирами кажется не менее резким, чем накануне русской революции 1917 года[31].
На большие города — включая мегаполисы Центральной и Восточной Европы — начиная с 11 сентября 2001 года ложится тень новой угрозы. На Западе мало кто помнит о взрыве жилого дома на улице Гурьянова и террористической атаке в театре на Дубровке, когда в заложники был взят целый зрительный зал, около 1000 человек. Крупнейшие города нашей цивилизации, способные нормально функционировать только в режиме открытости, предельно уязвимы, защитить их очень трудно. Они смогут уцелеть лишь в том случае, если создадут гражданское общество, умеющее постоять за себя, отыщут эффективные способы гражданской самообороны. За последние годы Москва и Нью-Йорк произвели на меня особенно сильное впечатление в моменты террористических актов: жители этих столиц впервые поняли, что для них поставлено на карту. Прежнее обывательское равнодушие и индифферентность словно испарились. Люди не спали ночью, помогали друг другу. Они внимательно следили за всем, что происходит в городе, в их квартале, в их доме. Пробудилось невиданное прежде сознание личной ответственности, гражданский пафос, своеобразная «бдительность города» (Георг Зиммель), от которой не остались в стороне и политики. Так формируется самозащита городов как наиболее уязвимой составной части нашей культуры, подвергающейся в наши дни угрозе со стороны нового врага, новый союз гражданской бдительности и гражданской ангажированности, который до сих пор трудно было даже вообразить.
* * *
[1] Первая систематическая попытка анализа трансформации городов была предпринята мной в статье: Schlogel K. Berlin und das Stadtenetz im neuen Europa, in: Kursbuch Stadt. Stadtleben und Stadtkultur an der Jahrtausendwende. Redaktion: Stefan Bollmann. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1999. S. 17—38.
[2] См. Ruble B. A. Leningrad. Shaping a Soviet City. Berkeley, Los Angeles, Oxford, 1990; St. Petersburg — Die Stadt am WeiBmeer-Ostsee-Kanal, in: Berliner Osteuropa Info 20/2004, Osteuropa-Institut der FU Berlin, Schwerpunktthema 300 Jahre St. Petersburg, 5—13; Orttung R. W. From Leningrad to St. Petersburg. Democratization in a Russian City. New York, 1995.
[3] О дискуссии по поводу юбилейных торжеств в Санкт-Петербурге см.: SchlogelK. Der Vorhang offnet sich. Zum 300. Geburtstag von Sankt-Petersburg, in: Der Tagesspiegel, 27 Mai 2003. S. 21.
[4] О трансформации городов см. доклады в сборнике: Composing Urban History and the Constitution of Civic Identities, ed. by John J. Czaplicka and Blair A. Ruble. Assisted by Lauren Crabtree, Washington D. C., Baltimore: Woodrow Wilson Center press, The John Hopkins University Press, 2003.
[5] Термин «смерть городов» введен, насколько я знаю, Богданом Богдановичем, архитектором и бывшим мэром Белграда. Об открытом характере современного большого города см.: Georg Simmel, Die GroBstadte und das Geistesleben, in: Simmel G. Das Individuum und die Freiheit Essais, Berlin: Verlag Klaus Wagenbach, 1984. S. 192—204.
[6] Изменение облика Москвы наиболее подробно рассматривается в основных московских журналах, посвященных архитектуре, а также в российско-голландском журнале «Проект Россия».
[7] Насколько мне известно, до сих пор никто не предложил анализа грандиозной «смены декораций» в городах Восточной Европы, в ходе которой миллионы людей в течение нескольких лет избавились от старой обстановки и обзавелись новой. Этот процесс получил название «евроремонта». По-видимому, эту спонтанную модернизацию «снизу» можно сравнить только с массовой модернизацией жилья и интерьера в западноевропейских странах в 1960-х годах.
[8] Развитие рынка недвижимости описывается в ряде журналов — например, в «Доме и усадьбе», а также в гламурных изданиях, посвященных внутренней архитектуре жилища.
[9] Пример, иллюстрирующий связь между историческим изучением города и развитием рынка недвижимости, можно найти в работе: Губин Д., Лурье Л., Порошин И. Реальный Петербург. СПб., 2000.
[10] О различии между публичными пространствами в социалистическом и буржуазном обществе см.: SchlogelK. Der "Zentrale Gor'kij-Kultur und Erholungspark" (CPKIO) in Moskau. Zur Frage des offentlichen Raums im Stalinismus, in: Hildermeier M. (Hg.) Stalinismus vor dem Zweiten Weltkrieg. Neue Wege der Forschung, Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien 43. Miinchen, 1998. S. 255—274.
[11] О характерных чертах городов Центральной и Восточной Европы см.: SchlogelK. Promenade in Jalta und andere Stadtebilder, Miinchen: Carl Hanser Verlag, 2001; а также: Schlogel K. Moskau und Berlin im 20. Jahrhundert. Zwei Stadtschicksale, in: Osteuropa. Zeitschrift fur Gegenwartfragen des Ostens. S. 53. Jahrgang/Heft 9—10, September-Oktober 2003. S. 1417—1433.
[12] Полезно было бы написать на систематической основе сравнительную историю разрушения европейских городов.
[13] О «демографической патологии» первой половины XX века как принципиальном моменте для понимания европейской истории см. раннюю работу: Kulischer E. M. Europe on the Move. War and Population Changes, 1917—1947. New York: Columbia University Press, 1948.
[14] Europa in Ruinen, Augenzeugenbericht aus den Jahre 1944—1948. Gesammelt und mit einem Prospekt versehen von Hans Magnus Enzensberger. Frankfurt am Main: Eichborn Verlag, 1999.
[15] Ср. двух классиков современной историографии городов: Anziferow N. Die Seele Petersburgs. Munchen: Carl Hanser Verlag, 2003 (русский оригинал: Анциферов Н. Душа Петербурга. СПб., 1922) и MumfordL. The City in History. Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects. New York: Harcourt, Brace&World, 1961.
[16] О городах в поздних многонациональных государствах см.: Hamm M. F. (ed.). The City in Late Imperial Russia. Bloomington: Indiana University Press, 1986; Mythos GroBstadt. Architektur und Stadtbaukunst in Zentraleuropa 1890—1937. Hg. von Eve Blau und Monika Platzer. Munchen/ London/New York: Prestel Verlag, 1999.
[17] Ср. исследование последствий этнических чисток для городов на примере Вроцлава: Thum G. Die fremde Stadt. Breslau 1945. Berlin: Siedler Verlag, 2003. Аналогичные исследования ведутся сейчас для таких городов, как Гродно, Львов, Калининград, Брно и др.
[18] Ср. в этой связи: Social Dimensions of Soviet Industrialization, ed. by W. G. Rosenberg and L. H. Siegelbaum. Bloomington: Indiana University Press, 1993; Lewin M. The Making of the Soviet System. New York, 1985.
[19] Hoffmann D. L. Peasant Metropolis: Social Identities in Moscow, 1929—1941. Ithaca. О городах в поздних многонациональных государствах см.: M. F. Hamm (ed.). The City in Late Imperial Russia. Bloomington: Indiana University Press, 1986; Mythos GroBstadt. Architektur und Stadtbaukunst in Zentraleuropa 1890—1937. Hg. von Eve Blau und Monika Platzer. Munchen/ London/New York: Prestel Verlag, 1999; Cornell University Press, 1994.
[20] Было бы полезным связать старый дискурс о модернизации и «догоняющем модерне» (термин Ю. Хабермаса) с новым дискурсом о Civil Society («гражданском обществе»), утвердившимся после 1989 года.
[21] Особенно подробное описание см.: Chan-Magomedow S. O. Pioniere der sowjetischen Architektur. Der Weg zur neuen sowjetischen Architektur in den zwanziger und zu Beginn der dreiBiger Jahre. Dresden, 1983.
[22] Новые интерпретации проблемы, стремящиеся преодолеть идеологический и политический нормативизм, предложены прежде всего в работах: Sheila Fitzpatrick (ed.). Stalinism: New Directions. New York, 2000; PlaggenborgS. (Hg.). Stalinismus. Neue Forschungen und Konzepte. Berlin: Berlin Verlag, 1998.
[23] О создании новых публичных пространств см.: Паперный В. Культура Два. Москва: Новое литературное обозрение, 1996.
[25] Ср.: Boym S. Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia. Cambridge, 1994; Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города. Нормы и аномалии, 1920—1930 годы. СПб., 2000.
[26] Литературное преломление этого опыта см. в: Brodsky J. Erinnerungen an Leningrad. Munchen: Edition Akzente Hanser, 1987.
[27] Видоизмененный термин тюбингенского историка Восточной Европы Дитриха Гайера: «общество как государственное мероприятие».
[28] О разрушении немецких городов ковровыми бомбардировками см.: Friedrich J. Der Brand. Berlin: Propylaen Verlag, 2001.
[29] Заслуживает внимания автобиография московского мэра Юрия Лужкова, в которой его жизнь представлена как история коренного москвича.
[30] Термин «столичный коридор» заимствован мной у американского историка Джона Р. Стилгоу (John R. Stillgoe).
[31] О связи глобализации и детерриториализации см.: Maier Charles S. Consigning the Twentieth Century to History: Alternative Narratives for the Modern Era, in: American Historical Review, June 2000. P. 807—831; Schlogel K. Im Raume lesen wir die Zeit. Uber Zivilisationsgeschichte und Geopolitik. Munchen: Carl Hanser Verlag, 2003.