Журнальный клуб Интелрос » Отечественные записки » №1, 2013
Беседа историков Дмитрия Баюка, Алексея Муравьева
и социолога Симона Кордонского
Новая эпоха религиозности
Алексей Муравьев: На религиоведческой конференции в Питере в середине ноября целая секция была посвящена постсекулярности. Сейчас, после Питера Бергера[1], все начали говорить о том, что наступила постсекулярная эпоха, что секулярность прошла. Причем эта постсекулярность сочетает в себе два разнонаправленных тренда. Один — возвращение интереса к мистике и религии, а другой — это продолжение секулярности в каком-то новом виде, постмодернистском. Сейчас существует множество моделей постсекулярности и объяснений того, что это такое. Но идея новой эпохи взаимоотношения религии и науки витает в воздухе.
Симон Кордонский: А откуда вообще возникла идея этой новой эпохи? Чем она отличается?
А. М.: Я думаю, что просто была «опрокинута» некая схема, кончился модерн — наступил постмодерн.
С. К.: Ну и постмодерн сейчас кончился. И вообще, что такое модерн и постмодерн?
А. М.: В религиозном плане тут кое-что понятно. Архаика — архаический уклад жизни по некоторым неосознаваемым (нерефлексируемым) нормам и правилам. Нужно, например, ходить в какое-нибудь святилище, повязывать ленточки — все идут повязывать; в церковь надо идти — все идут, особо не думая почему. Архаика сменяется модерном, и в результате рефлексии религиозных оснований (ценностей, норм, правил) наступает эпоха секулярности. А потом наступает постмодерн, и люди могут называть себя православными, или не православными, или самоопределяться как-то по-другому. Разрывается связь между ритуалом и самоидентификацией в частности.
С. К.: И в науке так же.
А. М.: И в политике примерно то же. Содержание сжимается, куда-то уходит, а остается некая форма, которая служит для разных других целей. Это называется условно «исчезновение содержания», особенно в плане религиозном, где мы наблюдаем довольно пеструю картину. Это постоянно замечают социологи, но интерпретировать почему-то не могут толком. Если формулировать вопрос одним образом — получается расцвет религиозности, что очень устраивает религиозные организации. С другой стороны, те же самые люди, назвавшие себя православными, на вопрос о практиках отвечают: «Нет, не ходим, не причащаемся, какие там практики, у нас частная жизнь...» и то ли не хотят говорить о том, как устроена их жизнь, то ли сами того не знают... В свое время английский социолог Грейс Дэви предложила такую конструкцию: Believing without belonging, то есть «Я верую, но ни к какой организации не принадлежу». Проблема в том, что если в англоязычных странах можно сказать: «Я верую», у нас люди говорят: «Я — православный». Что делать с огромным количеством людей, которые, не рефлексируя, идентифицируют себя с православием, но для них из этого ничего не следует? У меня такое ощущение, что религиозность, точнее религиозная идентификация, выступает в качестве легитимации определенной политики. Вот мы сейчас будем делать то-то и то-то, потому что у нас 80 процентов православных. Не существует пока более подробного описания. Есть люди, которые себя называют православными, но к религиозным практикам не имеют никакого отношения. Среди православных есть какое-то количество специфических отдельных культов. Например, паломнический культ. Есть люди, религиозная практика которых связана не столько с традиционным хождением в церковь, сколько с тем, чтобы ездить в определенные паломнические туры. Существует даже VIP-сегмент с поездками на самолетах. А в нижнем сегменте попы, к примеру, говорят: «Если ты в месяц не съездишь в четыре паломничества — спасения не жди». И направляют, как врачи — дилеры БАДов: «Идите в такое-то место, там вас отправят в паломничество». Такой вытесняющий культ.
Другой вытесняющий культ — это «старчество». Он возник в XIX веке. Сейчас многие пытаются представить дело таким образом, что это будто бы издревле идущее явление, но на самом деле это совершенно новая штука. Авторитет церкви замещают «старцы», компенсируя возникающий у адептов ценностный провал. Откровенно говоря, эти «старцы» нередко занимаются манипулированием людьми. Например, один говорит: «Телевизор у тебя есть? — Выкинь!» или дает верующему какую-то банку с водой: «Будешь пить через каждые полтора часа!». И люди через эту систематическую практику включаются в определенные отношения... Можно ли говорить, что это — новая эпоха пострелигиозности?
С. К.: По-моему, в любой эпохе, если смотреть по первоисточникам, мы увидим схожие картинки. Ничем особым наше время не отличается. Многообразие форм поведения чрезвычайно велико, только оно не описывается. А как только появляются описания, то оказывается, что их результаты противоречат сложившимся представлениям. Поэтому возникают замещающие понимание термины «модерн», «постмодерн» и «постпостмодерн» — они обозначают уровень незнания того, что в социуме происходит. Я могу сказать, что наше общество глубоко религиозно, поскольку его члены верят, но не в традиционные религиозные ценности.
Научная вера
С. К.: Верят, например, в науку. Есть персонификация религии, и вокруг этих персонификаций — Христос, апостолы, Будда, Магомет и пр. — выстраивается одна культура; вокруг персонификаций науки — Ньютон, Эйнштейн и пр. — выстраивается другая. Портреты Эйнштейна висели тридцать лет назад в научных заведениях и квартирах младших научных сотрудников как иконы. Это был культ, в который были включены ученые или занятые в науке. Наука, отделившись в свое время от институтов религии, сохранила сходство с институциональной организацией церкви. Внутри отечественной науки доминирует вера в науку, хотя она по определению не религия. Сейчас, с моей точки зрения, проблема в том, что слишком много появилось культов, так много, что наука и вера вынуждены им противостоять. Дело в том, что и наука, и религия продуцируют картины мира. Хотя это совсем не функция науки. В советские времена эти картины мира конфликтовали. Сейчас они пытаются согласоваться в противостоянии новым культам, несовместимым ни с традиционными религиями, ни с традиционной наукой.
Современное ученое сообщество существует в рамках уже оформившейся чисто клерикальной структуры — с иерархией, с ритуалами: защита диссертации, присвоение степени, получение звания и так далее. До конца советской власти эта структура поддерживалась как оппозиция церкви, как носитель мировоззрения. В СССР академическая наука была как бы экспертной службой при ЦК КПСС. Особенно гуманитарная, включая международников, экономистов, историков и всех прочих. Они обслуживали идеологический и международный отделы ЦК. При этом на науку была возложена функция — через идеологический отдел ЦК — разработчика и носителя особого научного мировоззрения, в противовес религиозному, очевидно. Хотя это нонсенс: не может быть научного мировоззрения. По определению. Потом все это сломалось вместе с советской властью, и в последние годы официальная наука стала находиться в таком субординированном положении по отношению к церкви.
А. М.: Вот тут важный момент. Наука генерирует так называемое научное мировоззрение, которое начинает конкурировать с мировоззрением религиозным. Научное мировоззрение — это мировоззрение, внутри которого существуют некоторые научные объяснения. Одни, с теологической точки зрения, более интересны, другие — менее. В какой момент начинается конкуренция теологии и науки?
Дмитрий Баюк: Я подозреваю, что цели практически любого фундаментального научного исследования всегда лежат вне науки и в большинстве случаев имеют сугубо религиозную природу. Практически любой крупный ученый, будь то Галилей, Кеплер, Эйнштейн или Ньютон, имеет некие представления о божественном. Эти представления абсолютно индивидуальны, они любым воцерковленным человеком будут восприниматься как еретические, что отнюдь не располагает ученых к тому, чтобы эти представления излагать.
А. М.: Есть интересная рабочая гипотеза, что наука представляет собой некоторую разновидность ереси или, точнее, работает под этой маркой, «под прикрытием».
С. К.: Здесь непонятно, что такое наука. Наука — это же такой ритуал, ремесленничество. Всегда. А все, что выходит за пределы ремесленничества, может называться наукой, но ею не является. Все научные знания ограничены начальными условиями — нет абсолютных знаний, но есть естественное желание расширить начальные условия, в пределе на весь мир. И здесь ученый, как только переходит с позиции ученого в позицию конструктора мировоззрения, перестает быть собственно ученым-ремесленником. Он пытается построить целостную картину мира на основании фрагментарных, эмпирически выверенных им же знаний.
Д. Б.: Не могу согласиться с первым тезисом: ритуалы в науке важны, но они не исчерпывают ее содержания. А если говорить о построении мировоззрения, то это, вероятно, так: оно строится как довольно смелая и не всегда рациональная экстраполяция. Но, вообще говоря, мы рассматриваем эпоху рациональности между концом XVIII и началом — серединой XX века как эпоху рационалистического научного взгляда на мир, когда такое отношение ученых к своему творчеству — и возникающая в результате этого отношения картина мира — разделяются большинством общества.
С. К.: Оно было очень неоднородно, это общество. Скажем, читающее общество — может быть. Но далеко не все читают... Допустим, люди, жившие не на ренту с земли, а на гонорары или на доходы с торговли, — читали. Их было очень мало.
А. М.: В свое время был такой неплохой религиозный писатель — сейчас он стал православно-патриотическим журналистом — Виктор Михайлович Тростников, у него была статья «Научна ли "Научная картина мира"?». Хорошая статья — она объясняет, что наше мировоззрение покоится на религиозных догмах.
С. К.: И книжка у него была прекрасная...
А. М.: «Мысли перед рассветом» — да, он там показывает, что на самом деле научные основания — это основания, в общем, религиозные.
С. К.: У них общие основания, только методы разные.
А. М.: Лженауки были всегда, но все профессиональные ученые к ним относились с усмешкой... Есть области знания, которые впоследствии превратились в лженауки. Например, алхимия какое-то время была вполне приличной и хорошей наукой, даже в некотором смысле метанаукой, а потом выяснилось, что все это ненаучно, что есть другие способы отношения к миру веществ и целям химии. Алхимия стала лженаукой. Сегодня, например, есть такие феномены, которые, безусловно, имеют экономическую подоплеку, — Петрик, Фоменко и прочие. Это разновидность полукоммерческих культов. Самый известный культ такого рода — Рон Хаббард, саентология. Это действительно работает как экономическая модель. У меня такое ощущение, что сейчас происходит попытка то же самое сделать из науки. И в саентологии, и в фоменковщине есть элемент личной веры, личного убеждения. Печатаются огромные тиражи книг, возникает некоторое количество адептов. Как из религии можно сделать коммерческий культ, так и из науки можно.
С. К.: И уже есть подобные примеры — Большой адронный коллайдер, например. Это типичный культ. Там прекрасные пиарщики, сумевшие вокруг большого дорогого прибора сделать структуру, которая выдавливает из мира деньги на свое существование. Заметьте, с какой постоянной периодичностью появляются разные сообщения о грядущих событиях: то бозон вроде открыли, то его не открыли; то нейтрино пролетело со скоростью выше скорости света, то не пролетело. Это огромная армия физиков, инженеров и программистов, оставшихся без работы после отмирания того типа гонки вооружений, который сложился в середине XX века, зарабатывающих деньги на продолжение своего существования созданием культа из своего занятия.

А. М.: Понятно — озеленение Луны...
С. К.: Да, будем строить большие ускорители, и там, может быть, возникнет новая энергия.
А. М.: Что-то типа вышеупомянутой алхимии: давайте делать — авось получим философский камень.
С. К.: Но там еще есть общая теория поля, квантовая хромодинамика, теории струн и прочие романтические тексты, которые считаются священными... И есть огромная литература — интерпретация этих текстов, которая считается собственно наукой.
А. М.: Можно, стало быть, говорить о том, что так называемая лженаука...
С. К.: Ничем не отличается от науки.
А. М.: И что это всегда освоение каких-то ресурсов.
С. К.: Кроме тех направлений, что связаны с корпорациями, которые работают на рынок. Там, где есть международные деньги... Мы же обсуждаем мировоззренческие проекты. Помните, физики говорят: «Мы достраиваем картину мира»?
А. М.: Правильно, продажа мировоззрения. Существует, правда, некоторая опасность экономического детерминизма.
С. К.: Это никакая не экономика. Это занятость. Это социальный статус.
А. М.: Да, безусловно. Лженаука — это скорее про занятость и статусы. Хотя в ней есть и элемент пассионарности. Петрик действительно верит в то, что изобретает. Через старую религию, кстати, сейчас сложнее социализироваться и получить значимый статус. Сегодня статус попа ничего особенного собой не представляет.
Европейская научность как ересь
А. М.: Вернемся к мировоззрениям. Интересно, что европейская цивилизация имеет большую традицию научного объяснения всего. Ну многого, по крайней мере.
С. К.: С XVII века.
А. М.: С XVII века это расцвело, но принцип заложен был еще Демокритом.
С. К.: Тогда это не было картиной мира, а с XVII века это стало картиной мира.
А. М.: Сократа за что осудили на смерть? За то, что он утверждал, что Луна — это камень. Это часть картины мира. Считалось, что Луна — это божество!
С. К.: Это было не в рамках науки. Наука в сегодняшнем, вернее вчерашнем, смысле появилась не так давно. Еще в начале XVII века рынок, власть, политика и наука были нераздельно слиты. В конце века они разделились, организационно оформились и стали взаимодействовать между собой как отдельные институты. Наука стала развиваться более-менее самостоятельно, то есть ученые стали отвечать на вопросы других ученых. До этого те, кого называли учеными, отвечали на вопросы, которые задавали другие люди, не ученые. А ответы финансировала аристократия.
Д. Б.: Не совсем понимаю Ваш тезис, Вы можете его как-то проиллюстрировать?
С. К.: Ньютон отвечал на какие вопросы? Он решал какие-то задачи?
Д. Б.: Он решал задачи, которые были им же самим и придуманы, он двигался, повинуясь исключительно некоторой внутренней и не очень понятной нам логике... Представьте себе: чума в Англии. Человек совершенно изолирован в деревне. Над ним владычествует его мать, которая хочет, чтобы он был фермером, а не занимался ерундой, а он всячески отлынивает, смотрит в небо и придумывает. очень много разных каких-то вещей. Ну, в частности, он придумывает методы приближенного решения уравнений через разложение функций в ряды, составляет таблицы, с очень высокой точностью, разных элементарных функций. И сейчас мы можем сказать, что он двигался к построению определенной физической теории...
С. К.: Но он общался не с профессионалами, когда чума кончилась, когда началось Королевское общество[2]. Вопрос к Королевскому обществу кем ставился?
Д. Б.: Когда началось Королевское общество, Ньютон с ними особенно не общался. Он попал в Лондонское Королевское общество лишь в 1670-е годы со своим телескопом — ньютоновским рефлектором, — который был воспринят Обществом очень хорошо, а вот общие идеи Ньютона относительно оптики были восприняты плохо. В этом смысле действительно после избрания ученого членом Общества вопросы и критику он получал от других его членов. Но Ньютон очень скоро пожалел, что ввязался в эту полемику, потому что она отвлекала его от важных и насущных дел. А что это за важные и насущные дела — вам, конечно же, известно: он искал философский камень.
Позже Ньютон вышел практически из всякого взаимодействия с Лондонским Королевским обществом еще на десятилетие, до тех пор пока к нему не приехал Галлей и не рассказал, что они там в Лондонском Королевском обществе рассуждают об эллиптической форме орбит. На это Ньютон ответил, что может объяснить, почему они такие. Это объяснение вылилось в его знаменитые «Математические начала натуральной философии», и только в этом смысле можно признать, что он отвечал на вопросы других ученых.
А. М.: Хорошо, а если перескочить дальше — кто формулировал вопросы во все дальнейшие периоды деятельности Ньютона и деятельности Общества? Эти вопросы брались из самой науки?
Д. Б.: Я бы все-таки сказал, что Лондонское Королевское общество, поскольку оно существовало на королевские деньги, было обязано отвечать на те вопросы, которые интересуют государство. Лондонское Королевское общество не интересовалось философским камнем.
С. К.: Философский камень ценен не сам по себе, а тем, что он позволяет осуществлять трансмутации, то есть превращать металлы в золото, в универсальную валюту.
Д. Б.: Но Лондонское Королевское общество, например, интересовалось и вычерчиванием береговой линии Англии. Если надо плыть из Англии в Новый Свет, очень важно понимать, что делать, чтобы приплывать туда, куда мы хотим, а не абы куда. Для решения этой задачи создавалась Гринвичская обсерватория. Ньютон, требуя у директора этой обсерватории Флемстида результаты его лунных измерений, полагал, что Флемстид обязан их предоставить как государственный служащий вышестоящей государственной инстанции. А Флемстид их не давал, потому что считал, что это его интеллектуальная собственность. Как раз в XVI веке происходит разделение университетской науки и академической, иными словами, официальной науки и науки неофициальной, можно сказать, лженауки. Потому что, безусловно, с точки зрения научного истеблишмента XVII века...
С. К.: Истеблишмент ведь был неотделим от церковной иерархии?
Д. Б.: В то время церковная иерархия была неотделима от государственной. И в Англии тоже, конечно же.
А. М.: Вы сказали про отделение лженауки от официальной науки. В каком смысле Вы говорите о лженауке?
Д. Б.: Все прекрасно понимают, что у Галилея не было никаких оснований утверждать, что Земля движется вокруг Солнца. И сам Коперник «поменял систему отсчета» исключительно для простоты вычислений, хотя особой простоты вычислений у него не получилось. В этом смысле с позиций науки XVI—XVII веков относиться к любой гелиоцентрической космологии иначе как к лженаучной было невозможно. И все приводившиеся ради ее обоснования соображения имели исключительно идеологический характер. Я бы сказал, даже религиозный. Причем не просто религиозный, а еретический: все люди, которые с этими идеями выступали, воспринимались как еретики. Почему у Кеплера Солнце в середине мира? Мир сферический, Солнце в середине мира — это символ Бога Отца, сфера внешняя — это Бог Сын, а постоянство радиуса — это Бог Дух Святой. Эта идея в равной степени воспринималась как еретическая и протестантами, коллегами по школе, где он преподавал, в Граце, и иезуитами.
У Кеплера, кстати, есть письмо к Маджини — такой был астроном в XVII веке, один из злейших врагов Галилея, они все время с ним «бодались» по разным поводам. Кеплер писал: «Не нападай на Галилея. Мы, сторонники коперникианской ереси, должны поддерживать друг друга». То есть сам Кеплер все прекрасно понимал. Почему, собственно, в 1616 году книга Коперника попала в Индекс запрещенных книг? Потому что за нее выступили два человека: испанский теолог Диего Цунига — последние годы жизни он провел в Италии, в Риме, где его называли Стуникой, — и итальянский теолог Паоло Фоскарини. У них были основания думать, что с теологической точки зрения было бы полезным считать Солнце центром Вселенной. А потом, позже, уже в 1622 году, кардинал Пьер де Берюль — основатель французской ветви ордена ораторианцев — заявил, что прав был Коперник, который поместил Солнце в центр Вселенной, потому что все вращается вокруг Бога.
С. К.: Подобные дискуссии об устройстве и происхождении мира сохраняли весьма ощутимый привкус канонической религиозности до тех пор, пока в XIX веке не появилась конкурирующая теория сотворения мира, представленная естествоиспытателем Дарвином — специалистом по описанию многообразия форм жизни. Это система постулатов, которые невозможно доказать, она основана на вере в творящую силу естественного отбора. Она бессмысленна по определению, потому что основной постулат ее онтологии — вид — не существует в том виде, в котором он введен в дарвинизм. Вид существует в науке как классификационная (таксономическая) категория, которая возникает в процедуре определения принадлежности особи к таксону. В практике полевых исследований есть особи, но нет видов. Эти особи в процедуре классификации относятся к некоему виду. Задача в дарвиновской теории эволюции ставится абсурдно: доказать происхождение видов (то есть классификационных категорий) в результате естественного отбора особей. «Виды» не могут происходить, размножаться, у них нет необходимых органов, виды — результат осмысления и упорядочивания форм жизни, не более того.
А. М.: Это классическая средневековая проблема, существуют ли универсалии... Кстати, это ересь в чистом виде. Потому что сказать: «Универсалий не существует, и они нам в некотором смысле не нужны» — это номинализм.
С. К.: Они нам нужны в определенном отношении.
Д. Б.: Вид — это идея, через причастность к которой мы упорядочиваем мир, то есть можно сказать, что это нечеткое множество.
С. К.: Кстати, нет. не множество, поскольку процедура классификации — иерархическая линнеевская процедура — действенна для животных и растений, а для бактерий и вирусов не работает. Она позволяет не только относить особь (экземпляр) к таксону, но и определять по диагностическим признакам принадлежность неизвестной особи (экземпляра) к таксону. Это не идея, а сугубо операциональное понятие, и в этом смысле, конечно, вид существует. Другое дело — что философски мыслящие люди представляют себе иерархию видов так, как будто она существует сама по себе, как Система Природы. Дарвин, основываясь на Системе Природы, ввел понятие происхождения видов (совокупности признаков) путем естественного отбора. И, соответственно, породил новую религию, религию читающих и рефлектирующих людей.
Д. Б.: Ну, безусловно, чтобы постулировать единство живого — в него надо верить. Конечно, это довольно сложно.
А. М.: Можно сказать, что в Новое время в Европе вера с религией начали расходиться, при том что вера как система убеждений оказалась делом сугубо индивидуальным, а практики оказались плохо привязаны к каким-то воззрениям, и в результате этого возникло множество религиозных идентичностей без привязки к институтам и конкретным практикам. Нет ли тут исходной точки процесса, который привел к возникновению науки?
С. К.: У меня такое ощущение, что сейчас наука примерно в том же в состоянии, в каком религия была XVI—XVII веках.
А. М.: Я об этом и говорю.
С. К.: Сейчас парадигма выработана, закоснела, собственно радикального приращения научного знания с 60-х годов прошлого века нет. Нет открытий, меняющих картину научного мира в целом, хотя в отдельных областях науки, таких как биоинформатика, изменения весьма заметны и значимы.
Д. Б.: Ну почему же? За это время появилась инфляционная теория, суперструны и вообще всякие струны, появилась петлевая квантовая теория... появились множественные вселенные...
С. К.: Это же некоторые конструкции, которые даже теоретическими назвать сложно — это некоторые аппроксимации формул, попытки их представления в якобы понятном — для других специалистов — виде неких формализмов, или иллюстраций — для простаков.
Д. Б.: Квантовая хромодинамика в принципе вполне себе была хорошая и последовательная теория, и ее недостатки заключались в том, что в ней было слишком много свободных параметров, и в том, что было непонятно, как ее свести с теорией электрослабых взаимодействий Вайнберга — Салама. В этом стандартная модель ее «переиграла». А если говорить о мультиверсе, то, на мой взгляд, это радикальное изменение картины мира.
С. К.: Чьей?
Д. Б.: С начала XXI века идея мультиверса проникает в массовое сознание. Когда 50 лет назад Хью Эверетт пришел с этой идеей к Бору, Бор его не принял... Ни его самого, ни его идеи. А сейчас есть немало людей, которые принимают идею мультиверса, как физиков, так и не физиков.
С. К.: А как не физик может принять эту версию?
Д. Б.: Как некий художественный образ.
Религия в науке
С. К.: Как образ. Значит, это не наука — это некоторый образ картины мира, в значительной степени тип религии.
Д. Б.: А наука вообще существует в мифологическом пространстве...
А. М.: Значит, наука — это тип религии, потому что религия тоже существует в мифологическом пространстве.
С. К.: Нет, ну, извините, у науки есть одно маленькое отличие от религии...
Д. Б.: У них разная природа.
С. К.: Природа разная в том, что начальные условия научных экспериментов воспроизводятся потом в виде машин в отличие от религии, так ведь? И, собственно, вся современная цивилизация создана как развитие тех приборов, в которых были впервые воспроизведены некоторые физические эффекты. химические, биологические — не суть важно. Никакая другая область деятельности человеческая не дает такого выхода. Религия не дает.
А. М.: Религия дает другое немножко — она дает причастность к перводвига-телю, к идее идей... Религия конечным результатом, если отринуть метафизику, вывести ее за скобки, в конце концов создает некоторое важное поле социальных и психологических эффектов.
С. К.: Да. Свое место в мире.
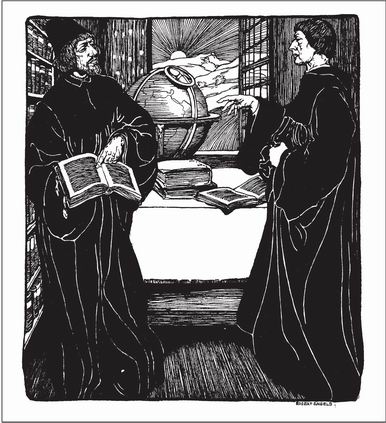
А. М.: Да. Определенный тип социальной организации, грубо говоря, определенный тип общества. И определенную систему социопсихологического воспроизводства.
С. К.: Социальную машину.
Д. Б.: Тут возможно и психологическое измерение: религия на личностном уровне человеку важна, поскольку она дает ему смысл существования.
С. К.: И наука, если ее сделать религией, тоже дает смысл существования. Сколько мы знаем шизанутых ученых.
Д. Б.: Это — да, но есть среди ученых подмножество вполне осознающих себя в качестве атеистов.
А. М.: Как есть подмножество религиозных ученых.
Д. Б.: Я бы сказал, что все-таки атеизм — это тоже определенная форма религиозности. Когда человек самоопределяется как атеист — то это уже некая форма религиозного сознания. Ему нужно ответить на целый ряд вопросов, к научной сфере не относящихся. Современная научная картина мира — очень безрадостная: она практически исключает существование иных цивилизаций. Вселенная пуста, в ней мало материи... В ней очень мало мест, где может зародиться жизнь. Она существует конечное время. Она разлетается, причем разлетается с ускорением, значит, рано или поздно даже в тех местах, где жизнь, может быть, зародилась, она обречена на гибель... То есть, вообще говоря, никакого «светлого будущего», ради которого хотел бы жить человек, человечество, не просматривается... Научная картина мира не обладает мотивирующими качествами. Для того чтобы «жить в науке» и трудиться, и добавлять какое-то свое знание в то, что все равно исчезнет, с такой, с экзистенциальной, точки зрения, на мой взгляд, очень трудно.
С. К.: У меня принципиально другая позиция. То, о чем Вы говорите, никакого отношения к науке не имеет. Это экзистенциальные вопросы. И то, что наука лезет в область экзистенции, означает, что она перестает ею быть. Научная экзистенция в том виде, который Вы представили выше, дефектна: она предполагает, что мир имеет начало и конец, что он был рожден — как человек, и что человек произошел от обезьяны, что это вид царства животных. И все меняется, если предположить, что сами понятия начала, конца, рождения и исчезновения — вненаучны, сугубо религиозны. Например, если считать людей не видом животных, а царством природы, то придется принять, что существует множество цивилизаций рядом, может быть, и в соседнем доме, столь же глубоких, как наша, но совершенно непонятных. Существуют совершенно другие миры людей, они рядом, но мы не подозреваем, что они есть. В силу ограниченности нашей онтологии. И в силу того, что проще, видимо, рассуждать на темы возникновения или гибели человечества, чем принять неизвестность и изучать то, что доступно для изучения.
Д. Б.: Эти миры тоже погибнут.
С. К.: Одни погибнут, другие возникнут — это ведь все в рамках логик рождения и смерти, начала и конца, то есть религии. Неизвестно, зародился он или нет, этот мир, может быть, он существует вечно? Ведь само время — это сугубо социальная категория. В природе нет времени, мы — люди — его туда вводим. Время и пространство — это очень скользкие категории. Сама гипотеза о возникновении мира и его конце носит глубоко религиозный характер. Бог сотворил мир, но если Бога нет, то кто его сотворил? Ах, вы мне говорите, что Большой взрыв мир сотворил! А такой вывод ничем не отличается от сотворения мира Богом. Не вижу повода для пессимизма. Извините.
Бог как факт
Д. Б.: Большой взрыв — в каком-то смысле «медицинский факт». С. К.: Ну и Бог — тоже. «Медицинский факт».
А. М.: Нет, Бог — это, как известно, по легендарному выражению Лапласа, — это гипотеза, можно ее принимать, можно не принимать.
С. К.: И Большой взрыв — это гипотеза, можно ее принимать, а можно не принимать.
Д. Б.: Ненужная гипотеза. Гипотеза, которая не нравится заказчику. Кому-то не нравится бесконечная Вселенная... Утверждения в наших учебниках в духе таких концепций 1920—30-х годов об абсолютно бесконечной Вселенной требуют некой коррекции — все-таки это тоже религиозный постулат. Бесконечная Вселенная — более или менее всегда безрадостная. В западноевропейской культуре она впервые появилась у Джордано Бруно. У него была идея, что если мы переходим от системы Птолемея к системе Коперника, где Солнце в середине, то не нужно, чтобы внешняя сфера — сфера неподвижных звезд — вращалась вокруг Земли... А если звезды действительно неподвижны, то тогда видимое их положение сохраняется во времени даже в том случае, если между ними нет никакого твердого посредника — они просто висят в пустоте. Они висят и неподвижны. Мы крутимся и видим, как небесная сфера вокруг нас перемещается... А если нет небесной сферы и они ни к чему не прикреплены, то тогда они могут находиться на очень разных расстояниях. А так оно и должно быть, потому что милость Божия бесконечна, и Бог создает бесконечно много миров. Все рассуждение Джордано Бруно строится именно таким образом — исходя из бесконечности божественного могущества. В таком виде эта идея Джордано Бруно оказалась полезной, потому что такой мир не надо создавать. Он есть. Он существовал вечно...Он вечно будет... То есть не нужны никакие объяснения с началом времени. Тут этих всех вопросов нет.
С. К.: Значит, можно обойтись в картине мира без Большого взрыва, теории эволюции и прочих измышлений новейшего времени.
А. М.: Тот же Хокинг постоянно пишет статьи, дает интервью, где он пытается науку использовать в качестве некоего антидота против религиозного объяснения.
Д. Б.: На мой взгляд, наука и религия не только во многом совпадают, но и в чем-то противоположны друг другу. Современная наука, наука XVII века, появляется тогда, когда сливается эксперимент с теорией, когда ученые поняли, каким мощным инструментом является специально поставленный в соответствии с теорией эксперимент, который ее подкрепляет.
С. К.: В момент такого понимания любопытные обыватели превратились в ученых. А если такого понимания нет, то какими бы академиками люди ни были — они не ученые.
А. М.: Это же создает обратную связь, в которой присутствует автомодельность. То есть мы создаем теорию — подкрепляем ее экспериментом, я имею в виду порождающие эксперименты. Из эксперимента выводится теория, а соответственно теория подкрепляется экспериментом.
Д. Б.: На это можно по-разному посмотреть. Тогда же, в XVII веке, было такое упоение экспериментами, когда появились академии, которые считали, что наука — это только эксперимент и ничего больше. Одна из позитивистских точек зрения — махизм — рассматривала теорию как способ компрессии результатов экспериментов, когда нам нужно компактным образом описать множество экспериментов. Люди придумали много разных точек зрения, но, как мне кажется, философы более или менее сходятся в том, что наука — это теория прежде всего. Что мы объясняем мир через теорию, а эта теория экспериментами подкрепляется, что-то мы видим в эксперименте и вынуждены как-то теорию подстроить. Насколько я понимаю, в вере это не так. Мы все-таки верим в то, чего не можем проверить.
С. К.: И пытаемся научно опровергнуть то, во что не можем поверить. Кризис и фанатики
А. М.: Эпоха секуляризации заставила религиозную веру искать альтернативу способам выражения через рациональные схемы. Теология, которая является в некотором смысле способом рефлексии религиозных оснований, утверждает, что любая богословская точка зрения в определенном смысле слова доказуема, что теологические объяснения — не абсолютные постулаты. То есть можно сказать, что это постулаты типа научных.
Д. Б.: Мне кажется, что это все-таки некое лукавство. Мы можем рассуждать о религиозных вопросах с помощью научных. Есть религиозные вопросы, религиозные посылки, и дальше вполне себе научная теория вокруг этого всего строится. Проблема именно в том, каковы постулаты, каково отношение к потустороннему, существует ли что-то помимо природы. Что-то надприродное. Существует ли «мир идей», если угодно.
А. М.: Фактически получается следующее: есть религиозная вера, и есть теология, которая по поводу этой веры рефлексирует, есть, условно говоря, научное мировоззрение, научная «вера», и наука, которая на основе этих постулатов работает. Получается некий параллелизм... Поэтому я не думаю, что сейчас происходит наступление мракобесия, наступление обскурантизма. По-моему, речь идет скорее о некой дезориентации... и в религии, и в науке.
Д. Б.: Дезориентация, безусловно, присутствует. В фундаментальной физике работают сейчас тысячи людей, их на порядок-другой больше, чем было в начале XX века, когда создавалась квантовая механика, у этих людей множество идей, а фундаментальных результатов — на порядок меньше. Можно даже сказать сильнее: это некий признак кризиса.
А. М.: Когда мы говорим о кризисе религии — это такого же типа кризис. Допустим, воспроизводство какое-то обеспечивается за счет некоторого количества людей, включенных в практики. Но дело осложняется тем, что существует гораздо большее количество людей, которые не включены ни в какие практики и ничего не делают. Они никак институционально к религии (в широком смысле) не привязаны. Раньше люди говорили: «Я верю в науку» — условно говоря, и этого было достаточно. Сейчас этого недостаточно.
Д. Б.: Как мы видим, это может быть достаточным. Если судить по художественной литературе, человеку XIX века было достаточно науки, для того чтобы понимать мир. Он считал, что мир устроен в соответствии с теми принципами, которые наука постулирует-устанавливает, и этого ему хватало.
А. М.: Да, но все равно получался какой-то такой Базаров, условно говоря.
Д. Б.: Базаров — это крайний пример, или фон Корен в «Дуэли» у Чехова. И сейчас такие люди есть. Но людей, которым этого не хватает, очень много, и они более заметны, они пытаются искать инструменты для понимания мира. Есть люди, которым не надо понимать мир, они без этого прекрасно обходятся, и они, может быть, даже и экономически эффективны, хотя и не рациональны. Есть довольно большое количество людей, у которых есть определенное отношение к миру, и оно не базируется на науке.
А. М.: Поэтому люди вполне нормально живут и являются грамотными потребителями, у них и с ними все нормально, все хорошо. Понятно, что религиозные или научные — какие угодно концепции большие — нужны очень небольшому количеству людей.
Д. Б.: В этом множестве людей удельная доля тех, кто основывает свое мировоззрение на научной картине мира, по моему ощущению, уменьшается. Мировоззрение, которое я не считаю научным, но которое в каком-то смысле конкурентное, — это экономическая картина мира. Это попытка судить о мире с точки зрения товарно-денежного обмена. Вот, скажем, рынок идей. Наука как производительная сила, которая производит некие идеи, изобретения, даже людей, которые выставляются в зону обмена, покупаются-продаются.
А. М.: Эта теория типологически похожа на конспирологию, с одной стороны, и на теорию гедонистической мотивации — с другой. То есть люди стремятся только к власти и к удовольствию.
Д. Б.: Принцип таков: человек достигает счастья, если он достигает успеха кратчайшим путем. Это даже может быть не обязательно экономический, а политический успех, один из двух. Вместо того чтобы думать о мире как о Вселенной, как о некоем взаимодействии каких-то материальных объектов, люди начинают думать о стоимости на рынке.
А. М.: То есть люди прекращают вести себя так, как будто они действительно исследуют, а ведут себя так, как будто они зарабатывают деньги. А что с собственно религиозными людьми? Там тоже есть «фанатики» и «масса». Мое личное ощущение, что эта масса — более или менее константна. Она в результате каких-то определенных социальных и прочих вещей стала расти в 1990-е годы, сейчас этот рост прекратился, и она фактически на каком-то уровне зафиксировалась, а потом будет снижаться до некоего уровня, «среднего по больнице».
Д. Б.: Если говорить о религиозном мироощущении, то я бы скорее подумал, что это более или менее постоянная величина. Если говорить о причастности к той или иной церкви, то я думаю, что она до какого-то момента возрастала — ну, наверное, вот, в девяностые годы — до начала двухтысячных, — а сейчас, скорее всего, уменьшается.
А. М.: Пожалуй, так. Кроме того, количество «фанатиков» и в религиозном поле, и в науке, похоже, сокращается. А масса размывается и потихонечку начинает формулировать свои запросы, порождать новую элиту, не связанную с «фанатизмом» и фанатической аскезой. А то, что наука имеет религиозные основания, позволяет видеть происходящее как своего рода реформацию, социальную перегруппировку научных и религиозных элит в условиях кризиса смыслов.