Журнальный клуб Интелрос » Отечественные записки » №2, 2013
Мы постоянно вылавливаем во всем ложные закономерности (наряду с истинными), и случайное кажется нам менее случайным и более определенным, а наш чересчур резвый мозг скорее уж примет ошибочный и упрощенный сюжет, чем согласится с отсутствием какого бы то ни было сюжета.
Нассим Талеб[1]
Вынесенный в эпиграф тезис, принадлежащий автору нашумевшего «Черного лебедя», может быть весьма полезным при анализе феноменологии угроз в обществе, переживающем взлет и разложение утопии. Увлекая человека в пространство невозможного, утопия навязывает относительно простую, непротиворечивую и устойчивую картину мира. Победившая утопия основывается на представлении о том, что невозможное не просто возможно, а уже воплотилось в жизнь. Однако иллюзия стабильности воплощенной утопии сталкивается с острой необходимостью в камуфлировании несовпадения действительности с ее официальной репрезентацией. Наиболее простая стратегия такого камуфлирования состоит в том, что сама утопия становится источником обоснования угроз своей же собственной иллюзорности. Иными словами, вслед за утопической мифологизацией реальности требуется мифологизировать и угрозы, способные эту мифологизацию разрушить. И в этом случае «навязанная (без)опасность» оказывается весьма кстати. Ее задача вовсе не в том, чтобы вселить веру в достигнутую безопасность. «Навязанная (без)опасность» необходима для поддержания простой и предсказуемой картины мира.
Стремление к безопасности представляет собой базовую потребность человека, которая коренится в глубинных основаниях «воли к жизни». Это стремление отражает особое значение чувства защищенности от разнообразных угроз и предсказуемости возможных рисков. Если потребность в безопасности удовлетворена, то человек живет другими стремлениями, а беспокойство по поводу разного рода опасностей у него заметно снижается. И наоборот, если по каким-то причинам мотивацию в отношении безопасности необходимо поддерживать на высоком уровне, то это возможно на основании актуализации страха. Когда мотивация направляется в русло мнимых опасностей, чувство безопасности, основанное на преодолении мифических угроз, также будет иллюзорным. Безопасность не может быть навязанной, а «навязанная безопасность» не может быть подлинной. Как работает этот принцип в обществе? И каким образом возникает необходимость в «навязанной (без)опасности»? Варианты ответов на эти вопросы могут быть столь же многообразны, сколь многообразна культура. Трансформация системы мысли, характерной для культуры, переживающей взлет и разложение утопии, — лишь один из них. Советская и постсоветская история содержит богатый материал для исследования такой трансформации.
Время как угроза
Еще древние греки знали, что истина и время несовместимы. Не потому что время быстротечно, а потому что логика, которую оно привносит в систему мысли, подрывает любую устойчивую модель «истинного мира». Либо мы признаем относительность наших суждений, либо мы провозглашаем истину, но извлекаем ее из-под власти времени. Платон, например, сделавший выбор в пользу истины, поместил ее в мир идей, расположенный вне времени.
Утопия воплощает в себе окончательную и общеобязательную «истину», и время оказывается здесь крайне нежелательным элементом. Сталинский вариант решения античного парадокса известен: «истинное» положение дел конструируется путем переворачивания времени, которое в интерпретации событий течет не из прошлого в будущее, а наоборот. Если «герой революции» спустя двадцать лет после октября 1917-го объявляется «врагом народа», то это означает, что он не был и «героем революции».
Столкновение утопической «истины» со временем имеет свою довольно жесткую логику. В 1937 году Кузьма Петров-Водкин создает одно из своих последних произведений «Новоселье. Рабочий Петроград». С утраченной гармонией дворцового интерьера контрастирует разорванное пространство коммунального быта. В многочисленных деталях картины угадывается скрытый подтекст, свидетельствующий о разрушительном вторжении утопии в структуры повседневности. Одним из ключевых символов неестественности происходящего являются часы, отраженные в зеркале. Оказавшийся в зазеркалье циферблат выглядит странным свидетельством ирреальности времени новой жизни — остановившегося совсем или начавшего обратный отсчет...
Поддержание устойчивости «истины» сталинской утопии невозможно без решения логической задачи, связанной с необходимостью освобождения от времени и завершения истории. Претендуя на открытие «подлинного» смысла истории и ее «объективных законов», теоретики обязательного к изучению в СССР «исторического материализма» в перевернутом виде воспроизводили известный библейский нарратив. В христианской культуре, где, собственно, и рождается привычное для нас переживание времени, история воспринимается как временной разлом между «золотым веком», окончившимся грехопадением, и конечным завершением исторической драмы в огне апокалипсиса. Оба события (и начало истории, и ее конец) оказываются результатом соприкосновения времени и вечности, человеческого и сакрального. И в этом смысле история представляет собой не только линейное время хронологии, но и то пространство, которым власть этого времени ограничена.
В «историческом материализме» грехопадение заменяется отчуждением, а апокалипсис — победой коммунизма. Отчуждение понимается как первопричина неравенства и эксплуатации, в которых укореняются непримиримые противоречия, обеспечивающие движение истории. «Объективные законы развития общества», заместившие собой могущественные силы Провидения, в лоне многовековой истории постепенно готовят рождение пролетариата, который своим трудом искупает грех отчуждения. Вследствие своего уникального места в системе общественного производства пролетариат становится «могильщиком буржуазии», «гегемоном» исторического процесса и творцом принципиально нового общества. В коммунизме отчуждение (грехопадение) преодолевается, и все исторические противоречия снимаются, завершая тем самым драму истории.
История, таким образом, предстает в виде закономерного процесса, нивелирующего роль случайности. В «Кратком курсе истории ВКП(б)», который редактировал лично Сталин, можно было прочитать:
...в своей практической деятельности партия пролетариата должнаруководствоваться не какими-либо случайными мотивами, а законами развития общества, практическими выводами из этих законов[2].
За рассказом о «законах развития общества» следовал вывод о том, что утопический идеал «из мечты о лучшем будущем человечества превращается в науку». Знание о будущем переставало быть вероятностным. Неизбежным провозглашалось именно то будущее, которое определяется воплощением утопии. А все альтернативные перспективы объявлялись отживающими и соотносились не с настоящим или будущим, а с прошлым.
В «историческом материализме» золотой век из начала истории был перемещен в ее конец. И эта манипуляция потребовала разрешения одного из главных парадоксов сталинской культуры: если утопия — это пространство невозможного, то воплощение утопического идеала не должно было пониматься в логике хронологического (прогрессивного) продвижения к нему. Более того, действительное продвижение к идеалу могло бы подорвать основы сталинской власти (особенно если учесть ранние большевистские теории об отмирании государства в коммунистическом обществе). Но если идеал недостижим, то он неизбежно утрачивает свою притягательную силу. Поэтому сталинская культура попадала в своеобразную ловушку: утопический идеал должен быть одновременно и воплотившимся, и недостижимым.
Выход из этой ловушки был найден весьма остроумный: если хронологическое мышление неудобно, его можно заменить топологическим. Связь между утопией и действительностью перемещается из временной перспективы в пространственную. Теперь все сосуществует одновременно, но в разных топосах. Такой обмен времени на пространство снимал наиболее очевидные логические нестыковки и позволял освободить интерпретацию настоящего времени от линейной логики движения к будущему. А становление нового общества переосмысливалось в пространственной терминологии.
Образцов доминирования пространственного мышления в текстах сталинской культуры можно найти немало. Вот один из характерных примеров, взятый из канонической биографии вождя:
Большой заслугой Сталина нужно считать тот факт, что в этот период, в период первого разворота индустриализации и коллективизации, когда нужно было мобилизовать все трудовые силы народа для решения великих задач, он поставил во весь рост женский вопрос <...> и, подняв его на должную высоту, дал ему правильное решение[3].
Из этого фрагмента ясно, что индустриализация и коллективизация именно «разворачиваются», подобно тому как разворачиваются платоновские идеи, придавая миру вещей желаемую оформленность. Требующий решения вопрос сначала «ставится во весь рост», «поднимается на должную высоту» и лишь после описанных пространственных манипуляций «правильно решается». Слово «период», которое можно было бы соотнести со временем, указывает скорее на некий самодостаточный «отрезок», как бы изъятый из хронологии. Природа этой «изъятости» становится понятной в контексте рассуждений Сталина об искусстве руководства:
Нельзя отставать от движения, ибо отстать — значит оторваться от масс. Но нельзя и забегать вперед, ибо забежать вперед — значит потерять связь с массами[4].
«Забегающие вперед» и «отстающие» напоминают о времени и воспринимаются как угроза движению, понимаемому в пространственной семантике разворачивания и формирования. Поэтому Сталин делает вывод о необходимости «вести борьбу на два фронта — и против отстающих, и против забегающих вперед»[5].

Замена хронологии топологией позволяла рассматривать утопический «истинный мир» не только как абстрактный идеал, но и как воплощенную реальность. В результате сама актуальная действительность неизбежно раздваивалась. Первая ее ипостась сливалась с идеалом и обретала черты вечности для тех, кто уже «спасен» приобщением к «истинному миру». Но такой способ мысли был весьма неустойчив, поскольку он легко распадался под влиянием очевидных нестыковок между реальностью и идеалом. Поэтому переживание актуальной действительности должно было иметь вторую ипостась, объясняющую несовершенство жизни прорывами отживающего прошлого.
Подобное раздвоение логически неизбежно в системах мысли, исходящих из предопределенности будущего. Оно очевидным образом проявляется в принципах «социалистического реализма», который был единственным официально дозволенным «методом» советского искусства. Суть его состояла в изображении реальности не в том виде, в котором она существует, а в том виде, в котором она должна предстать в свете утопической «истины».
Создание упрощенной и предсказуемой реальности для большинства требует от ее создателей весьма существенных интеллектуальных усилий. Однако только интеллектуальных усилий будет недостаточно.
Маски врага
Еще в философии Платона идеальное государство распадалось, стоило его переместить из «золотого века» в реальную жизнь. Угрозы, ведущие к распаду идеального государства, Платон видел как в разрушающем действии времени, так и в индивидуальных пороках людей. Любопытно, что сталинская культура прилагает неимоверные усилия в борьбе с обеими угрозами, которые, впрочем, имеют глубокую взаимосвязь.
Шокирующие масштабы сталинской борьбы с «контрреволюционными элементами», «вредителями» и «врагами народа», воплощавшими в себе трудновообразимое средоточие всех человеческих пороков, вряд ли можно объяснить логикой обычной схватки за власть. Утопический идеал, который был источ-ником легитимации сталинской власти, не мог справиться с объяснением всех противоречий советской действительности. И перевод этих противоречий в план противостояния добра и зла был неизбежен. Создание многочисленных образов врага необходимо для поддержания веры в реальность, если ее подлинность определяется уже не отношением вымысла к действительности («социалистический реализм» стирает различия между ними), а самим фактом противостояния многочисленным угрозам.
Утопия воплощается вне времени и завершает историю. Поэтому разрушающее вторжение времени и реанимацию истории после победы над ней «в отдельно взятой стране» можно объяснить лишь прорывами внешних сил. Время истории превращалось таким образом в арену обостряющейся борьбы между добром и злом, между строителями коммунизма и его множащимися врагами, встававшими на пути этого строительства. Историческая драма обретала исключительно внешние по отношению к победившей утопии импульсы. Вне этой борьбы история заканчивалась, и сквозь пелену иллюзорного времени проступали черты вечности, в которой уже произошло слияние реальности и утопического «истинного мира».
Парадокс такого типа мышления состоит в том, что полная победа над «врагами» невозможна. Чем более описание нового общества приближается к идеальному, тем более жуткими должны быть образы его врагов. Сталинская феноменология зла снимала «ужас истории» в характерном эсхатологическом духе: возрастание зла воспринималось как необходимый предвестник окончательной победы добра. Известный тезис об обострении классовой борьбы по мере достижения успехов в строительстве коммунизма напоминает тезис о поляризации добра и зла как признаке приближающегося апокалипсиса — последнего откровения, завершающего историю.
Зло в сталинской культуре обретает не только всемирные масштабы, но и таинственную силу, которая даже после победы утопии каким-то мистическим образом постоянно «оживляет и использует пережитки капитализма в сознании людей»[6], реанимируя то «прошлое», с которым большевики ведут непримиримую борьбу. Враги нового общества из капиталистического окружения, их внутренние «пособники», а также весь капиталистический мир как бы перемещались в «прошлое» (отжившее или отживающее). Но не следует забывать, что сталинское мышление не хронологично, а топологично. Силы зла локализуются не в прошлом исторической хронологии, они оккупируют тот топос «прошлого», который представляет собой своеобразную «параллельную реальность». Поэтому существует постоянная угроза прорыва этих сил из «параллельной реальности» и воплощения их где угодно и в ком угодно. Если это так, то носителем вражеской сущности может стать любой.
Враги надевают маски обычных соседей по коммуналке, писателей и ученых, командиров Красной армии и даже членов политбюро («Сталин сорвал маски с этих презренных капитулянтов...»[7]). Поэтому разоблачение зла, умело маскирующегося под добро, требует особых способностей видеть в безобидных с первого взгляда людях проявление их скрытой сущности. Причем сама эта скрытая сущность выражается в таких колоссальных масштабах, которые можно представить, только если поверить, что разоблаченные «враги народа» действовали не сами по себе, а были орудием нечеловеческой силы. Николая Бухарина и осужденных вместе с ним «врагов народа» обвиняли, например, в попытке захвата власти, многочисленных убийствах и покушениях на лидеров партии, шпионаже в пользу иностранных разведок, подрыве военной мощи, провокации нападения на СССР и даже в попытке расчленения страны. Этот список дополняется подготовкой кулацких восстаний, организацией взрывов на шахтах и крушений поездов, а также многочисленными диверсионно-вредительскими актами по порче урожая, сокращению поголовья скота, распространению эпидемий, совершенных в самых разных уголках огромной страны[8]. Такое количество преступлений вряд ли было бы под силу обычным людям, которые к тому же постоянно находились на виду.
Полярность добра и зла представляет собой, как известно, один из основных принципов поддержания мифа: мифологический герой обретает собственное бытие в противостоянии трикстеру, разрушающему идеальный порядок извне. Создатели новых коллективных представлений о советской действительности прекрасно понимали их мифический характер. Выступая на I Всесоюзном съезде советских писателей, Максим Горький столь же виртуозно, сколь и откровенно стирает грань между вымыслом и реальностью:
Миф — это вымысел. Вымыслить — значит извлечь из суммы реально данного основной его смысл и воплотить в образ, — так мы получим реализм. Но если к смыслу извлечений изреально данного добавить — домыслить — по логике гипотезы — желаемое, возможное и этим еще дополнить образ, — получим тот романтизм, который лежит в основе мифа и высоко полезен тем, что способствует возбуждению отношения к действительности, отношения практически изменяющего мир[9].

И таким же образом, как это описывал Горький, миф подменял собой действительность во время показательных процессов над «врагами народа». Публиковавшиеся в газетах отчеты о таких процессах, сопровождаемые многочисленными письмами советских людей с магическими проклятьями в адрес подсудимых, представляют собой довольно любопытный источник, вскрывающий логику необходимости врага. В качестве примера можно привести выпуск газеты «Правда» от 5 марта 1938 года, в котором содержатся выдержки из резолюций митингов и собраний, проходивших в духе «часа ненависти», описанного в антиутопии Джорджа Оруэлла. В редакционной преамбуле к этим материалам, занимавшим почти весь номер, говорится:
Великий советский народ единодушно требует беспощадного уничтожения гнусных предателей, убийц, провокаторов и шпионов[10].
Если реальность мифологизирована, то угроза, способная привести к ее крушению, может возникнуть откуда угодно. Оборотной стороной замещения реальности утопическим идеалом является тотальная подозрительность. О такой подозрительности в поэме Эдуарда Багрицкого «ТВС» говорит непонятно откуда пришедший «просто потолковать» мрачный призрак Дзержинского:
Неразберешься, который век. А век поджидает на мостовой, Сосредоточен, как часовой. Иди — и не бойся с ним рядом встать. Твое одиночество веку под стать. Оглянешься — а вокруг враги; Руки протянешь — и нет друзей; Но если он скажет: «Солги!» — солги! Но если он скажет: «Убей!» — убей!
Зло относится к гибнущему миру, а следовательно, оно не обладает подлинным бытием и не может быть доступно познанию (то, чего нет, не может быть и познано). Поэтому его иррациональное разрастание до невообразимых масштабов неизбежно, если культура делает выбор в пользу утопии.
Утрата критерия подлинности реальности, вызванная социальными и культурными катаклизмами первых десятилетий ХХ века, требовала компенсации. И, возможно, кровавая брутальность организованного насилия стала следствием отчаянно радикальной попытки найти выход из обнажившегося раскола между онтологией и гносеологией, бытием и мышлением, жаждой реальности и утратой веры в ее подлинность. Рассуждая о восприятии Бертольтом Брехтом колонны советских танков, двигавшихся в июле 1953 года по Восточному Берлину, Славой Жижек делает весьма любопытное замечание:
Дело не в том, что Брехт считал допустимой безжалостную борьбу в надежде на то, что она приведет к процветанию в будущем: грубость настоящего насилия, как такового, воспринималась и одобрялась как признак подлинности[11].
В «темные времена», когда реальность мифологизируется, а иллюзия провозглашается последней «истиной», подлинность новых идеалов доказывается масштабами пролитой за эти идеалы крови.
Распад утопии
Описанная система мысли не может быть долговечной. При столкновении утопии со временем победу в конечном итоге одерживает время. Именно время вкрадывается вовнутрь утопического «истинного мира» и начинает его разложение изнутри. Если Сталину еще удавалось имитировать освобождение от разрушающего действия времени, то его последователям это было уже не под силу. Первый очевидный компромисс между утопией и временем вынужден был заключить Никита Хрущев, пообещавший построение коммунизма к 1980 году. После осуждения массовых репрессий и освобождения режима от мобилизационной логики возникла необходимость легитимации действительности путем соотнесения ее не с постисторическим, а с вполне достижимым идеалом. Поэтому Хрущев вынужден был придать коммунизму не только историческое, но и биографическое измерение, определив период полноценного воплощения утопии в масштабах жизни одного поколения.
Но поскольку примирение утопической «истины» и времени невозможно, по мере приближения к заветной дате становилось все более очевидным, что обещанный идеал не приближается, а скорее удаляется. Брежневские идеологи искали выход из заданной Хрущевым головоломки, предпринимая попытки перенесения акцентов с идеи коммунизма на «реальные» достижения «развитого социализма». Идеологическая власть пыталась теперь выхватить из-под власти времени уже не идеальный коммунизм, а «развитой социализм» — ту реальность, которая объявлялась достигнутой и растягивающейся на неопределенный срок. В результате коммунистический идеал стремительно утрачивал свою убедительность, а размывание исторической перспективы создавало ощущение иллюзорности времени и чувства и бесконечной повторяемости примет отмененной истории, как в «За-пое под Новый год» Александра Галича:
Где все зазря, где все не то,
И все не прочно,
Который час, и то никто
Не знает точно.
Лишь неизменен календаръ
В приметах века —
Ночная улица. Фонаръ.
Канал. Аптека...
Чувство безвременья в поздней советской культуре вновь обрело актуальность, но уже не на фоне трагедии сталинских репрессий, а в формате геронтократического фарса.
На заре революции надежда на вечную жизнь была аргументом, впечатлившим сомневавшегося Фому Пухова, героя повести Андрея Платонова «Сокровенный человек». Фома Пухов «ревниво следил за революцией, стыдясь за каждую ее глупость», но оценил один из ее лозунгов, обещавших вечную жизнь:
Каждый прожитый нами денъ — гвоздъ в голову буржуазии. Будем же вечно житъ — пускай терпит ее голова[12]
Господство иллюзии вечной и счастливой жизни, увлекшей за собой миллионы, было недолгим. Уже в позднем советском обществе тема вечности обретает скорее ироничный подтекст. И известный советский лозунг о бессмертии дела вождя («Ленин умер, но дело его живет») превращается в явное издевательство над больным генсеком: «Брежнев умер, но тело его живет».
При обращении к эволюции утопической системы мысли возникает вопрос об актуальности этой проблемы для постсоветской России. Поскольку власть утопии не может быть устойчивой во времени, может показаться, что тема эта представляет исключительно исторический интерес и не имеет прямого отношения к современной реальности. Но если господство утопии недолговечно, то ее распад, как свидетельствует постсоветский опыт, может затянуться надолго.
Логика утопии такова, что она не устраняется даже после краха режима, ее воплощавшего. Сегодня вполне очевиден кризис транзитологических концепций объяснения постсоветской истории, исходивших из проблематики перехода посттоталитарного общества к полноценной демократии[13]. Эти концепции вряд ли могут объяснить, почему в современной России заявленные после распада СССР ориентиры пересматриваются, а оказавшаяся в руинах утопия подает вполне очевидные признаки жизни.
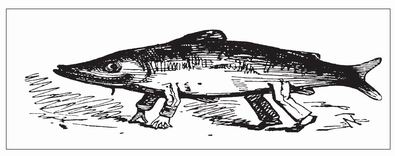
Уже ко второй половине 1990-х годов попытки деконструкции культурного наследия советской эпохи сменились ростом ностальгических настроений. Новая система координат так и не смогла найти в массовом сознании позитивной точки отсчета, а возникший вакуум заполняется паразитированием на символике утопического прошлого. В условиях, когда постсоветская реальность описывается «старыми песнями о главном», реанимация отдельных фрагментов утопической системы мысли неизбежна. И наиболее подходящим из них вновь оказывается «навязанная (без)опасность».
В различные периоды российской истории эскалация страха по поводу реальных и мнимых угроз позволяла беспроблемно создавать относительно эффективные «негативные идентичности»[14], освобождающие власть и общество от необходимости самосознания внутренних проблем и кропотливого поиска согласования общих и частных интересов. Зачем идти на компромиссы между различными группами, если одними можно манипулировать, а других объявить пособниками внешних врагов. Однако цена такой стратегии слишком высока. Постулирование образов внешнего врага всегда оборачивается углублением внутреннего раскола и разрастанием теневого пространства, куда вытесняются периферийные группы интересов. Еще в позднем советском обществе теневое пространство оказывалось таковым именно в силу невозможности вовлечения его в существующие картины реальности: общий интерес идеологизировался, а частные интересы фрагментировались и вытеснялись в те сферы, где перспективы легальной самоорганизации были перекрыты.
В постсоветской России эта весьма устойчивая стратегия несколько трансформируется. В результате распада эффективных возможностей утопического оправдания общего интереса на его место приходят частные интересы властвующих групп, которые для обретения легитимности вынуждены маскировать эти интересы под общегосударственные. Но такое камуфлирование требует создания широких перспектив. Дискретность и фрагментарность частных интересов не позволяют воспроизвести достаточно широкие перспективы. Отсюда необходимость мобилизационной риторики, способной, опираясь на постулирование угроз и державную демагогию, создавать видимость необходимой социальной масштабности. Проблема, однако, состоит в том, что эти перспективы оказываются настолько же иллюзорными, насколько иллюзорным может быть общегосударственный (или общенародный) интерес, если ему отведена роль всего лишь прикрытия.
Поскольку внутреннее единство дифференцирующегося общества не определено, постулирование угроз этому единству также будет лишено определенности. Более того, если укрепление вертикали власти в постсоветской России не имеет иных рациональных оснований кроме интеграции интересов самой власти, то и продуцирование в массовом сознании образов внешних для этой вертикали угроз также будет иррациональным. В результате образы врага не только расщепляются, но и иррационализируются. Среди них оказываются всевозможные радикалы и экстремисты, таинственные экспортеры «оранжевой угрозы», «иностранные агенты» и коварные адепты «либерально-атлантической диктатуры». Многочисленные образы врага воспроизводятся в отечественных телесериалах, теленовостях и публичной политике. Любопытно, что обвинения других часто проецируют внутренние травмы, отвечая таким образом на потребность в вытеснении памяти о них.
Если власть выбирает в качестве основания собственной легитимации видимость монолитного единства как между собою и обществом, так и внутри самой себя, то неизбежным оказывается вытеснение любых внутренних противоречий во внешние. И «навязанная (без)опасность» становится обязательным условием такого способа мышления. Тем более что в российской политической культуре этот способ имеет весьма устойчивые традиции.
* * *
Анализ «навязанной (без)опасности» в контексте утопического мышления приводит к весьма любопытным выводам. Если система мысли основывается на упрощении реальности и монологическом провозглашении окончательной и универсальной «истины», то уязвимость и внутренняя противоречивость такой системы мысли требуют компенсации. Эта компенсация находит свое выражение в постулировании многочисленных опасностей, навязывание которых позволяет перевести внутренние противоречия во внешние.
Именно эта стратегия была основной в поддержании сталинской утопии, логика распада которой во многом определяет постсоветские трансформации. «Навязанная (без)опасность» и сегодня представляет собой весьма эффективный прием, позволяющий переключить внимание общества с существующих противоречий на внешние угрозы. Неопределенность этих угроз, соседствующая с отчаянным желанием их определить, обретает сегодня новые мотивы, порождаемые соединением авторитарных тенденций с коммерциализацией. Результатом этой причудливой комбинации оказывается умножение образов врага и сужение радиуса доверия, что способно подорвать не только диалог с носителями иных убеждений, но и основания отношений между «своими».
Преодоление последствий затянувшегося распада утопии вряд ли будет возможным, если только не будет вскрыта изначальная дилемма, маскирующая ее уязвимость. Или система мысли отказывается от утверждения окончательной «истины», освобождается от навязываемых этим утверждением мнимых угроз и открывается таким образом для диалога — или же логические нестыковки, связанные с необходимостью поддержания веры в исключительность собственных отношений с «истиной», будут компенсироваться эксплуатацией чувства опасности. Однако бесперспективность стратегии «навязанной (без)опасности», похоже, становится все более очевидной.

[1] ТалебН. О секретах устойчивости: Эссе; Прокрустово ложе: Философские и житейские афоризмы. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2012. С. 232—233.
[2] История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. М.: Госполитиздат, 1953. С. 109.
[3] Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография. М.: ОГИЗ, 1948. С. 120.
[4] Сталин И. В. Вопросы ленинизма. 11-е изд. М.: Политиздат, 1939. С. 304.
[5] Сталин И. В. Там же.
[6] Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография... С. 144.
[7] Там же. С. 103.
[8] См., напр.: Рекунков А. М., генеральный прокурор СССР. Протест (в порядке надзора) по делу Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова, А. П. Розенгольца, М. А. Чернова, П. П. Буланова, Л. Г. Левина, И. Н. Казакова, В. А. Максимова-Диковского, П. П. Крючкова, Х. Г. Раковского. 21 января 1988 г. // Известия ЦК КПСС, 1989. № 1 (288). С. 114—119.
[9] Первый Всесоюзный съезд советских писателей (стенографический отчет). М.: Художественная литература, 1934. С. 10.
[10] Правда. 5 марта 1938 г. № 63 (7388).
[11] Жижек С. 13 опытов о Ленине. М.: Ай Магдіпет, 2003. С. 58.
[12] Платонов А. Сокровенный человек // Живя главной жизнью. М.: Правда, 1989. С. 15.
[13] См., напр.: Гудков Л., Дубин Б. Посттоталитарный синдром и апатия масс // Пути российского посткоммунизма: Очерки. М.: Изд-во Р. Элинина, 2007. С. 10—14.
[14] См.: Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997—2002 годов. М.: Новое литературное обозрение, ВЦИОМ-А, 2004.