Журнальный клуб Интелрос » Отечественные записки » №4, 2012
Ведущий: Анатолий Берштейн (А. Б.) — журналист, учитель истории
Татьяна Малкина (Т. М.) — главный редактор журнала «Отечественные записки»
Леонид Блехер (Л. Б.) — социолог, публицист
Сергей Волков (С. В.) — учитель школы № 57, член Общественной палаты РФ, главный редактор журнала «Литература» Издательского дома «1 сентября»
Михаил Левит (М. Л.) — заместитель директора по научно-методической части гимназии № 1514, кандидат педагогических наук
Михаил Мокринский (М. М.) — директор гимназии № 1535
Антон Молев (А. М.) — учитель истории гимназии № 1514, учитель года — 2011
Александр Филиппов (А. Ф.) — социолог, философ, профессор Высшей школы экономики
Анатолий Берштейн: Тема нашего круглого стола — проблемы российской школы и та роль, которую она играет в современном российском обществе. Если в конце беседы у нас появится какая-то ясность в отношении того, что это за школа, в каком направлении она развивается, чего от нее можно ждать, на что можно надеяться и, в конечном итоге, чего нужно опасаться и за что тревожиться, то цель разговора будет достигнута.
Вначале мне хотелось бы поставить вопрос об определении сегодняшней российской школы. Ее часто называют постсоветской. Есть и другое мнение: постсоветская школа, которая предоставляла максимум свободы и минимум контроля, закончилась вместе с завершением официального этапа свободы в конце 1990-х годов.
Когда свобода стала уменьшаться, возникла новая школа, по годам — нулевая. Что это за школа? Является ли она переходной и каково направление этого перехода? Или, может быть, это уже устоявшаяся модель школы, которая оформилась, встала в какие-то пазы, которую можно описать? Или, может быть, переходная школа тоже уже закончилась, и наступил какой-то новый этап, или идет обратный процесс возвращения к советской школе? Итак, о какой российской школе мы сегодня говорим?
Михаил Левит: Думаю, что периодов в истории российской школы больше. Первый рубеж — 1988 год, когда состоялся неформальный съезд тогда еще советских учителей. С 1988 по 1993 год существовала не постсоветская, а «идеально-советская школа», та, о которой мечтал креативный учитель Советского Союза. Все основные глубокие прорывы были сделаны именно в это время. Когда яблоню подрубают, она зацветает. После смерти Советского Союза школа дала посмертный цвет.
В 1993 году появилась первая попытка урегулирования, первый базисный учебный план, достаточно еще вольный, с которым уже можно было серьезно работать. С этого момента и по 1998 год можно говорить о «постсоветской школе», устойчивой и демократической.
В 1998 году начались реакционные телодвижения, связанные со всякого рода всероссийскими совещаниями, попытками введения 12-летней школы, заявлениями о православных корнях русского народа, о российской идентичности, о национальной идее, которую все ищут, как черную кошку в темной комнате. Это уже несоветская школа. Непонятно, какая идея в ней заложена, но ясно, что с Советским Союзом эта школа распростилась.
С 1998 по 2001 год в школьном образовании установился переходный период с идеей модернизации, все усиливающийся бюрократический реванш, всякого рода упорядочивание, упорядочивание и упорядочивание. Продолжение этой мо-дернизационной логики мы наблюдаем до сего дня. Внутри этого периода новацией последних трех лет явился «беспредел экономистов». О школе и о проблемах образования начали говорить строго на экономическом языке. Такие понятия, как порядок получения образовательных услуг, менеджмент образования, использовались и ранее. Но сейчас проблемы школы обсуждаются только на этом языке.
Если брать содержательные вещи, то возможна другая периодизация, позволяющая разделить прошедшие 20 лет на две части. Сначала было: «Обучаем тому же, чему обучала школа и раньше». Все попытки создать предметные стандарты сводились к тому, что люди переписывали советские программы, называли их каким-то другим образом, переставляли границы внутри предметов. Основное содержание оставалось тем же самым. Менялись идеологические знаки и возглавия, но дважды два было четыре, физика, химия, биология оставались теми же.
Ситуация оставалась неизменной до того момента, пока за дело не взялся Александр Кондаков, создавший новые, принципиально другие стандарты. Кон-даковские стандарты уже приняты на уровне начальной школы, вот-вот будут приняты на уровне основной. Пока продолжается спор по поводу введения их в старшей школе. Но если стандарты будут приняты на первых ступенях, старшая школа тоже станет кондаковской.
В новых стандартах ничего не говорится о предметах. Предметная парадигма образования уходит, а другая не появляется. До появления кондаковских стандартов, до 2007 года, содержание образования оставалось просвещенческим. Сейчас делается попытка перестроить его на антропном принципе, когда в центре ставится человек. Удачно или неудачно это делается — оценивать пока рано.
А. Б.: Александр Фридрихович, а как Вы, социолог и преподаватель высшей школы, оцениваете сегодняшний уровень среднего образования?
Александр Филиппов: То, что я собираюсь сказать, вероятно, не будет резонировать с тем, о чем тут уже говорили и будут говорить. Я ведь еще и отец — у меня две дочери школьного возраста. Я являюсь потребителем школьных услуг. И я совершенно не испытываю никакого недовольства школой.
Я не испытываю ощущения, что образование становится хуже. Школа, где я учился в свое время, имела много объективных показателей для того, чтобы считаться по-настоящему хорошей. Тем не менее мой ребенок к четвертому классу знает то, что мне в том же четвертом классе было не по зубам. Это теперь входит в стандарт. И я доволен этим.
Как человек я понимаю, что сталкиваться с разными неприятными вещами я могу с одинаковой вероятностью как в школе, так и в других местах. Но в школе сейчас я сталкиваюсь с ними реже. И я представляю себе школу как некие острова порядка, где происходит что-то важное.
На самом деле, даже забыв про роль родителя, я могу сказать, что, при многих недостатках современного студенчества, я не вижу никакой катастрофы школы. Как вузовский преподаватель я сам выступаю в роли человека, производящего некую образовательную услугу. На входе я получаю первокурсника, и у меня есть идеальное представление о том, что у меня должно быть на выходе, какие преобразования я должен произвести с выпускником. Удивительным для меня оказывается, что современные первокурсники уже знают очень много того, чего я в их возрасте не знал.
Я не говорю сейчас о вещах, связанных с технологиями, — компьютеров когда-то не было. Но никому из преподавателей, обучавших меня, не пришло бы в голову давать мне на первом курсе задание, связанное с чтением научной литературы на иностранных языках. А я даю такие задания. На некоторых факультетах я могу давать литературу даже на нескольких языках, и студенты с ней работают. Сейчас это в порядке вещей.

Есть вещи, которые беспокоят меня так же, как и других преподавателей. Но под словами о том, что сейчас происходит катастрофа образования, я никогда не подпишусь. И к школам, которые видел, и к студентам, которых я учу, у меня складывается по меньшей мере двойственное отношение. Есть и обеспокоенность. Но преобладает все же позитивное отношение. Многих своих студентов я могу назвать не просто учащимися, а молодыми учеными, которые просто пока еще находятся в возрасте студентов. Я не представляю себе людей 2-3-го курса в мое время в моем окружении, с которыми бы я мог общаться таким образом, как я общаюсь сейчас со своими студентами. А мои друзья в сравнении с другими студентами считались интеллектуалами.
А. Б.: Речь идет о психологических и личностных качествах студентов или все-таки о содержательной стороне их знаний?
А. Ф.: И о том и о другом. Конечно, я могу начать рвать на себе волосы и говорить, что они не могут различить «тся» и «ться». Они допускают одни и те же ошибки. Но сейчас у меня есть другое, более общее соображение безрадостного толка. Опыт его не вполне подкрепляет, но я не могу полностью избавиться от беспокойства.
Впервые оно возникло во время разговора директоров московских школ, на котором я присутствовал, с Иосифом Калиной, тогда сотрудником министерства. Директора говорили, на мой взгляд, совершенно нормальные вещи, под которыми очень легко было подписаться, задавали конкретные вопросы. Что государству нужно от школы? Что оно хочет получить на выходе? Для чего все это делается? Было видно, насколько директора устали от непонимания, неопределенной ситуации. Но вместо ответа они слышали лишь: «Вы мне надоели, мне скучно вас слушать» и т. п. — после чего Калина пошел руководить московским образованием. Такое поведение вряд ли можно считать личной позицией. Это трансляция через должность определенной установки, когда государству от образования ничего не нужно.
А. Б.: Михаил Геннадиевич, я хочу спросить у Вас как у директора школы, чего государство хочет от школы? Хочет ли оно чего-то, формулирует каким-то образом свои запросы?
Михаил Мокринский: Конечно, хочет, но у государства в течение многих лет нет связной позиции. И чтобы обеспечить то, чего оно хочет, необходимо угадать, какая линия будет возможна, какая — не будет отвергнута, и самое важное — какая линия окажется реализуемой. Это важнее, чем любые регламентирующие ограничения или необходимость вкладывать в школу деньги.
Ответ на ваш вопрос возвращает нас в самое начало разговора, к вопросу о периодах в образовании. Сейчас мы вновь находимся в начале переходного периода. Учитель снова не понимает, будет ли сохранен и защищен его предмет, его позиция и цели, которые складывались задолго до всего, что начинается со слова «антропо».
Школа сейчас стабилизировалась вокруг очень простых вещей. Нормальный учитель пытается держаться академических задач, с которыми все ясно. Это ситуативно-личностное решение. После того как учитель лишился идеологической поддержки, он транслирует традиционную культуру, и не более того.
Второй вопрос, перед которым школа на какой-то момент оказалась, а потом отказалась на него отвечать: это соотношение задач образования и социализации. Школа умела воспитывать в идеологическом контексте, говорить о том, как правильно. Но она совершенно не умела и не умеет говорить о том, как бывает в реальности, в разных ситуациях, и как в связи с этим взаимодействуют разные люди.
Школа начала ожесточаться. Сегодняшняя позиция искреннего педагога складывается из нескольких элементов. Один из них: «Спрашивайте с меня то, что я умею делать, и не пытайтесь навязать то, чего я делать не умею, чему меня не учили и чего от меня на самом деле не ожидают». В основании этой установки лежит убеждение: если я чего-то не умею, то, наверное, это и правильно.
Тип ценностей, которые проявляются за всем происходящим, — инженерный (ценно то, что я умею делать). Именно этот тип ценностей доминирует сейчас повсюду. Я умею что-то делать средствами классической литературы, традиционного курса истории, традиционного курса математики и не задаю себе предельный вопрос: почему в курсе математики именно эти задачи, почему в курсе литературы список произведений содержит именно эти названия. Темник 1980-го года остается лежать под моей подушкой, несмотря на то, что рассказываю я вроде бы про что-то другое.
Сформулировать позитивную стратегию развития оказывается невозможно не только потому, что ее нет как общественно проявленной, но и потому, что мы нашли устойчивость в клятве верности классическому образованию. Учитель, который считает, что в литературе, истории и математике он должен следовать высшей планке когда-то найденной традиции, получает индульгенцию на то, чтобы не обращать внимания на современное состояние культуры.
Такой подход к академическому классическому образованию в контексте сегодняшней школы и сегодняшней культуры оказывается патриархальным и архаичным. Сегодняшняя школа транслирует культурный сигнал с чудовищным нежеланием, демонстрируя неумение свести концы с концами. За все двадцать лет, о которых мы говорим, при разных декларируемых целях и ценностях, школа всегда организовывала педагогическую работу таким способом, что цели и ценности достигались ровно обратные.
Речь тут даже не о демократии, не о чувстве собственного достоинства. Это базовое представление о том, что правильно в этой культуре, которое транслируется через тип взаимодействия, через то, что ценно и что должно быть воспроизведено. Без налаженного взаимодействия все заклинания по поводу исследовательской, проектной и т. д., и т. д. работы заканчиваются ничем.
Актуальная культура остается для школы абсолютно чуждой, вычеркнутой из ее существования. Актуальная культура для многих педагогов — это безобразное телевидение, ужасный Интернет и жуткие заведения, называемые словосочетанием «торгово-развлекательный комплекс». Школа, которая не научилась осмысленно сосуществовать с торгово-развлекательным комплексом, это школа — ставятся перед ней государственные задачи или не ставятся, — которая прячется от реалий сегодняшнего ребенка и сегодняшней культуры. А торгово-развлекательный комплекс оказывается местом, гораздо более значительным, зрелым и развернутым с точки зрения формирования возможности выбора, свободы, отношений и т. д., чем сегодняшняя школа.
Школа сегодня проигрывает очень серьезный спектр возможностей развития. Она не соотносит свои сегодняшние технологии, задачи и ценности с тем, что актуально, важно для ребенка. Соотноситься с традиционными ценностями семьи сегодня практически невозможно. Семья перестала поспевать за многими вещами. И нам не нужно пользоваться своим семейным опытом двадцати-тридцати-сорокалетней давности, не нужно поддерживать монопольную идею двухполярного мира, где «школа как образовательно-академическая классика» взаимодействует с «семьей как традицией», и на их стыке случайным образом возникает какой-то синтез.
До тех пор пока школа не будет активно пытаться отвечать на вопросы взаимоотношения с культурой и способами ее воспроизводства, она не осознает ограничения себя как способа воспроизводства.
Большинство хороших российских школ «паразитируют» на академических задачах обучения, на академических приоритетах. Такая школа хороша постольку, поскольку она отвечает стремлению большинства учащихся продолжить академическую карьеру. Получить образование и строить свою жизнь на такой хорошей базе образования.
Такая школа не знает, что она будет делать, если больше половины ее выпускников не претендуют на обучение в вузе. Оказывается, что надо обсуждать то «антропо», которое ведет прямиком к страшному определению «массовая школа». Нынешняя школа может стоять на прежних основаниях, только если она — производная от системы дальнейшей академической карьеры. Если нет, то вопрос о массовой школе все равно должен быть поставлен.
Татьяна Малкина: В странах, где массовая школа существует уже давно и находится в одном и том же русле с торгово-развлекательным комплексом, также давно идет речь об образовательной катастрофе, как с академической точки зрения, так и с точки зрения нерешаемых вопросов. Известны ли Вам какие-то удачные прецеденты?
М. М.: Одна из моих коллег после поездки по школам Германии, Франции и Швейцарии рассказывала, что получила настоящий культурный шок, когда в одной из приличных немецких гимназий услышала те же жалобы на разрушение прежних образовательных традиций Огашшаг ЗскооЫ. Она говорила о своем удивлении, когда в одной из школ, напоминавшей лучшие образцы, в ответ на вопрос, сколько выпускников собирается дальше идти в вуз, она услышала: 86 процентов учеников не собираются идти на дальнейшее обучение.
И все же программа выстроена по возрастающей сложности так, что ученикам интересно проходить материал, несмотря на то, что он не привязан к их будущей профессии. Это и есть учет человекоцентристской ситуации, когда что-то должны получить не только 14 процентов учеников, ориентированных на дальнейшее обучение, но и остальные 86 процентов.

Леонид Блехер: Михаил Левит показал нам истории приказов, отдаваемых школе ее внешними начальниками. А Михаил Мокринский в своем выступлении говорил о школе как о сообществе учителей. Безусловно, важно и то и другое. Но помимо множеств учителей и начальников существуют и множества учеников, и множества их родителей. И в каждом из этих множеств последние 20 лет происходили большие изменения. Родители и ученики — самая большая группа, втянутая в школьное образование. Казалось бы, изменения именно в этих громадных группах необычайно важны, значительно важнее того, какие приказы отдают начальники.
Анализируя ответы родителей на вопрос, зачем они отдают детей в школу, можно выделить 12 типов образовательных целей. То, что школа — это шаг к вузу, считает сегодня меньшинство родителей и людей, так или иначе связанных с образованием. Одни думают, что школа необходима для того, чтобы существовало государство. Другие называют целью развитие представлений о прекрасном, свободу, формирование нации. Для этого школа и нужна! Представления родителей о том, для чего нужна школа, во много раз важнее, чем представления об этом начальников, хотя бы потому, что родителем остаются намного дольше, чем начальником.
Сейчас мы видим ситуацию, когда количество действующих лиц вокруг школы и их мнений по поводу образовательного механизма резко увеличивается. Нынешний период — это период разговоров и формирования новых представлений. И пока их не будет, требовать каких-то новых решений нереально и бессодержательно.
Единого или более или менее сформированного общественного мнения пока нет. Ясное представление любого государства, особенно нашего российского, тоже необходимо лишь в ситуации крайней внешней опасности, во всех остальных случаях это ясное представление — кошмар. Мы должны цепляться за эту неопределенность как за возможность все обдумать с разных сторон.
М. Л.: Та школа, где я занимаюсь методической работой, позиционируется как академическая. 100 процентов наших выпускников поступают в вуз. Родители и ученики видят в этом ценность. Но подавляющая часть учителей занимается подготовкой к ЕГЭ помимо образовательной деятельности. Это означает, что школа имеет свою собственную культуру. Что даже продвинутая академическая школа не является предбанником вуза, а обладает собственной сущностью, которую школа зафиксировала и обрела в последние 20 лет. У классической советской школы не было собственной сущности. Это была общая система. Единая обучающая, просвещенческая машина от детского сада и до аспирантуры-докторантуры. Сейчас школа обрела свою собственную сущность. И это совершенно точно не сущность предбанника вуза.
Время систематически описывать ее, наверное, еще не пришло. Но я могу судить о тех школах, которые я знаю (а я знаю близко по крайней мере три хорошие школы). В этих школах основная масса учителей занята тем, что можно сравнить с работой садовника. Не с генной инженерией, когда учитель пытается что-то из человека сделать, вылепить. В большинстве своем наши учителя рассматривают своего ученика именно, и прежде всего, как ученика, а ученик рассматривает учителя как учителя. Они связаны некоторой личной верностью друг другу. Это первое обстоятельство.
Второе обстоятельство. Учитель пытается понять, чем его предмет в данный момент необходим, не для трансляции готовых культурных матриц, а именно как средство выращивания того замысла об этом ученике, об этом человеке, который у него самого есть. Многие учителя про это думают, об этом говорят, пытаются делать на уроках. Недаром натаскивание на ЕГЭ ушло «вбок».
Еще одно обстоятельство состоит в том, что учитель впервые начал задумываться о медицине, то есть начал смотреть на ребенка как на цельность. Когда мы смотрим на ребенка как на голову, из которой мы строим машину правильного мышления по Декарту, мы совершенно игнорируем его тело. А сейчас у хороших учителей есть тенденция смотреть на телесность и на те вещи, которые связаны с медициной. Есть учителя, которые пытаются получить второе образование — психологическое и медицинское. Это следует воспринимать как определенную подвижку в этой области. То, что словесник хочет стать физиком, мы уже прошли. Теперь учитель оканчивает вуз, связанный с медициной, с психологией. У нас в школе появилось даже два теолога.
Теперь по поводу оптимизма, который я услышал в речи Михаила Мокрин-ского. Я как историк педагогики могу сказать, что культура всегда производится именно в школах. Если обратить внимание на имена ученых, художников, композиторов, мы увидим цепочку учеников и учителей. Практически вся произведенная культура — это застывший диалог и взаимодействие с отобранной исторической памятью. Мы можем совершенно спокойно, практически без разрывов, протянуть линию от Фалеса Милетского до Пушкина, до Ландау, до многих других.
Функция школы как культуротворящего органа, мне кажется, сегодня сильно востребована. Школу перестали воспринимать как инструмент в руках хозяина. Ее вроде как отпустили на волю по причине того, что кормить ее нечем. И эта свобода, обретенная школой из-за дури начальства и из-за отсутствия денег, позволяет школам помнить свою основную задачу... Школа все-таки не торгово-развлекательный комплекс.
Т. М.: Все-таки Вы говорите о садовнике в условиях элитного хозяйства, о работе с селекционным семенным фондом. А Михаил Мокринский (хоть он сам тоже из подобной школы) говорил о тех школах, которых большинство. Просто он взглянул на них шире.
А. Б.: Давайте спросим у Сергея Волкова, что он думает.
Сергей Волков: Я всегда чувствую большое смущение, когда нахожусь среди историков, философов и социологов — людей, которые умеют обобщать и соединять. Мне как литератору труднее. Мне близок завет Чехова индивидуализировать каждый отдельный случай, потому что когда говорят общие слова про все, они так же правдивы, как и не правдивы. Вот мы говорим: школа. Но достаточно хоть немного поездить по нашей стране, чтобы увидеть, насколько школы разные. Каждый раз ты попадаешь вроде бы домой — тот же неистребимый запах, те же портреты на входе. Но кажется, что некоторые школы принадлежат XXI и даже XXII веку, а некоторые — веку XVIII.
В Татарстане в прошлом году был запущен многолетний проект по привлечению выпускников вузов в школы. Тем выпускникам, кто идет работать в школы — неважно, окончили они педвуз или какой-либо другой, — обеспечивается прибавка к зарплате в 7 тысяч рублей, оборудуются рабочие места. После первых двух месяцев работы их собирают на серьезные тренинги-семинары, когда они уже поварились в школьной среде и в сложившихся коллективах. Их соединяют в некоторую сеть, чтобы они не чувствовали себя заброшенными.
Я работал на семинаре с этими ребятами, а затем в другом семинаре, с учителями старшего поколения (это были учителя-словесники Казани). Здесь энергия — котел бурлящих, молодых, пусть и не очень понимающих. Там — милые, но усталые лица, от этих людей трудно требовать большего, чем ходить на работу и присматривать за детьми. Это существует в одной республике, в одно и то же время.
Чем школа хороша? Она всегда должна делать одно и то же. И она делает одно и то же, независимо от того, какие годы на дворе. Формы меняются, но суть остается прежней. Школа как институция буквально распята между полюсами ограничения свободы и трансляции культуры. Люди приходят в школу жить — как в тюрьму и армию. Не будем лукавить насчет свободы образовательной траектории. Учитель не может поменять класс, где он работает, так же как и ученику бывает сложно перейти в другую школу. Но при этом школа предъявляет также идею трансляции культуры. И в условиях внешней несвободы многие школы отвоевывают свое пространство частной свободы в общении человека с человеком.
Каждый ставит свои задачи, но общая задача очень простая. Мы должны ввести следующее поколение в права наследства. Я не хочу такой школы, которая будет гнаться за торгово-развлекательным комплексом, хотя и понимаю людей, которые об этом говорят. Для меня то, что на дворе XXI век, не отменяет того, что у нас есть Пушкин, есть Толстой, есть Достоевский. Все это остается им, они должны это понимать и уметь пользоваться этим наследством. Меня часто спрашивают: подростки другие сейчас? Да те же они. Детям во все века нужно, в общем-то, одно. Им чего-то хочется, и школа — это такое место, где это можно делать на законных основаниях. Нет другого места, где есть такое количество добровольно согласившихся прийти туда взрослых.
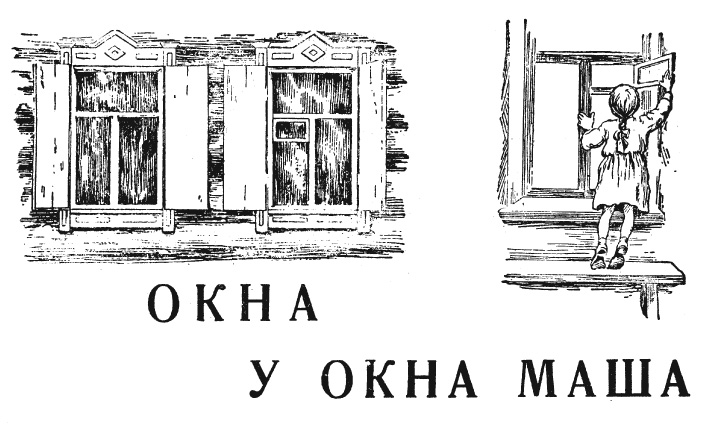
Чего же хотят дети? Они хотят, во-первых, кого-то кусать. У них есть зубы, и им надо на ком-то тренироваться. В школе это делать лучше всего, потому что здесь детская безопасность обеспечена. Они хотят быть любимыми. Им надо, чтобы их погладили по голове, чтобы их выслушали, чтобы им сказали, что они лучшие.
Почему они приходят к педагогу, берут за пуговку, хотят поговорить? Их гложет впервые осознанный страх смерти, их гложет желание быть признанными — все то же, что и во все века. Есть у меня восьмиклассник выше меня ростом — мощный, как 20-летний парень. Он подошел ко мне на перемене и, краснея, как красная девица, сказал: «Вы не можете мне что-нибудь порекомендовать почитать о любви? Мне сейчас очень надо». И по тому, как он покраснел, я понял, что сейчас трепещет вся жизнь его.
Для учеников я являюсь представителем мира взрослых, который помогает ребенку в тот или иной момент. И тут нет никакой разницы, по какой системе я тарифицируюсь, включаю электронную доску или нет. В 1980-е годы я точно так же пришел к своей учительнице, и, краснея, что-то спросил, а она мне ответила. И моя жизнь сложилась так, как она сложилась. В этом смысле, мне кажется, и слава богу, что школа традиционна.
Чего я не понимаю, так это того, кто будет заниматься образовательной деятельностью всего через несколько лет. Школа сейчас поражена ощущением усталости от перемен, носящих имитационный характер. Главная беда — отсутствие свободы педагога. Свобода может быть только личностной. А она всячески подавляется институционально закручивающимися гайками, валом бюрократии, каких-то бессмысленных действий.
Ключевой фигурой в школе становится директор. Именно он должен микшировать, защищать, держать щит, спускать на тормозах. Сейчас учителю предписано еще до начала сентября расписывать программу на год вперед, включая домашние задания и пробелы, которые педагог будет ликвидировать на каждом из уроков. А затем эти программы должны совпасть с тем, как будет проходить обучение в реальном времени. А если они не совпадут?
Во многих регионах безработица. Выстроились очереди людей, которые хотят работать в школах. Пенсионеры не уходят из школы, потому что их пенсия будет примерно в четыре раза меньше, чем зарплата. Педвузы пекут и пекут выпускников. Сельские малокомплектные школы убирают — и там учителя остаются без работы. Поэтому очень легко сменить того учителя, который хорошо учит, на того, кто вовремя заполняет необходимые бюрократические документы, заблаговременно составляет программу, заполняет дневники. Учитель обложен со всех сторон. Ему ничего не остается делать, кроме как играть по этим правилам.
Т. М.: Вы описываете процесс, который лишает школу не то что инновационного, а какого бы то ни было содержания.
М. Л.: Что действительно важно, так это то, что там, где существует содержательное движение, начальство к нему никакого отношения не имеет. Оно занято тем, что изо всех сил мешает существованию образования. Почему оно это делает — отдельный вопрос, который бы тоже следовало обсудить. Школы друг с другом пытаются взаимодействовать, наладить какие-то горизонтальные связи, организовать какое-то образовательное взаимодействие. В принципе для помощи им в этих делах и нужно начальство.
М. М.: Мне кажется, неправильно смотреть на эту проблему с позиции того, что во всем виновато начальство. Всем школам приходится разрабатывать свои многослойные фильтры — от глупости, от новаций, от культурных границ. Каждый директор получает некоторую сумму невыполнимых входящих условий. Отбрасывая какую-то часть, другие он транслирует дальше. Завуч, председатель методобъединения, учитель, получая эти условия, отбрасывает то, что ему не нравится, добавляет что-то свое — и получает ту сумму невыполнимых условий, которую он транслирует ученику. Принципиально в этой конструкции то, что за двадцать лет мы не продумали механизм, который на каждом уровне должен гарантировать тест на реальность.
Мы десятилетиями привыкли существовать при нерешенных базовых вопросах. На уровне государственной политики эта задача в принципе не решается. В качестве единого пласта, в котором удерживаются когда-то обсужденные проблемы и вещи, может выступить общественно-профессиональная культура, то, что является не суммой личных мнений, а неким проявленным общественным отношением. Но ее не существует. Каждый раз мы заново начинаем обсуждение почти с нуля.
Мы не фиксируем ни институционально, ни в какой-то другой системе сложившихся ориентиров многих очень важных вещей. Каждым начальником усвоен принцип фильтрации по личному выбору. Частью нашей педагогической культуры стало заполнение протоколов. А если это норма нашей будущей жизни, нашей профессиональной и общественной культуры? Свобода, о которой мы говорили, должна оказаться средним из трех уровней пирамиды, переходом от автономности к подотчетности — это современное, западное понимание свободы. Но у нас такого понимания не сформировалось, и мы реализуем каждый свою свободу как уникальную новость. И над этим, естественно, надстраивается наше начальство с тем, что оно считает борьбой за эффективность. Оно требует от школы отчета, куда потрачены выделенные деньги.
Могу привести в пример две модели эффективности, которые я видел сам. Одна — китайская. 20 лет назад голодные китайцы имели огромные территории и стоявшие на них бетонные коробки. Учитель знал: для того чтобы получить в свой класс оборудование, нужно показать результаты, вырастить победителя предметной олимпиады и т. п. Они боролись за это, чтобы наполнить свои классы телескопами, физическими и биологическими лабораториями, другими полезными вещами. Сейчас классы оборудованы прекрасно. Инфраструктура поддерживается, она работоспособна. Но вопрос об эффективности ее использования снят с повестки дня! Китайцы все накопили для хорошей жизни, только потеряли при этом представление о том, для чего это надо.
Другое представление об эффективности на Западе. Начиная с 1970-х годов умные люди, которые занимаются наукой, стали замечать, что вложение денег в школу не дает гарантированного результата. Они начали выяснять, что стоит вкладывать в школу для ее результативного функционирования, а чего не стоит. Все, что измеримо на выходе, они стараются каким-то образом тарифицировать. Поэтому западное представление — в том, чтобы не распылять деньги просто так, а посчитать, где это оказывается выгоднее государству.
Россия где-то посередине между этими полюсами. И, с моей точки зрения, это правильно, потому что школа не должна только выпрашивать деньги на том спорном основании, что делает взамен что-то хорошее, не конкретизируя, что именно. Уровень эффективности должен быть измерим.

В связи со всеми этими вопросами свободы и подотчетности отечественный педагог оказывается в совершенно неуютном положении. Ведь и китайская, и западная логика предполагает, что если правила вводятся, то нужно жить по правилам. У нас же нормальный управленец и учитель в большинстве школ, получив новую вводную, начинает ее как-то интерпретировать в своих интересах. Мы никак не можем договориться, что правила удобнее выполнять, чем нарушать. Мы во многих вещах импотентны именно потому, что не приняли общую рамку, удерживающую какой-то способ договариваться.
М. Л.: Мне кажется, что употребление слов и выражений из экономического языка «эффективность», «результативность», «рентабельность», «услуга», «потребность», «спрос и предложение» и прочее в педагогической сфере, где они работают исключительно как метафоры, причем метафоры многозначные и расплывчатые, приносит огромный вред.
Антон Молев: За время дискуссии уже был затронут ряд важных аспектов и прозвучало немало мнений, но, на мой взгляд, не меньшего внимания заслуживает проблема межпоколенческого разрыва, а также проблема диалога и взаимодействия. Здесь уместно отметить, что речь идет о сугубо российской специфике данного вопроса. Как известно, в диалоге с ребенком важно помнить, что дети, подростки воспринимают многое принципиально иначе, у них другой язык, другая система координат. Но сейчас они воспринимают происходящее еще и ци-вилизационно иначе, поскольку их взросление происходит в совершенно иных условиях. Мы преимущественно относимся к поколению «рожденных в СССР», они же родом из современной России. Как учитель истории я постоянно сталкиваюсь с серьезными трудностями при изучении истории ХХ века. Как ни парадоксально, для старшеклассников это самый нелюбимый и сложный для понимания период. И из уст одного, другого, третьего вполне заинтересованного ученика я слышу про нашу «новую страну». Кардинальные перемены 1990-х годов для них нечто гораздо большее, чем изменение политического режима, конституции и географии. К сожалению, мне не удается убедить их в наличии преемственности. Представляется, что между относительно близким прошлым и настоящим пролегла пропасть.
А. Б.: Позвольте лирическое отступление. Мой папа любил Лещенко и Козина. Я достаточно спокойно к ним относился, но знал их имена, знал их песни. Я их до сих пор помню. Но вот сейчас, безусловно, есть культурные пропасти, через которые мостик не перебрасывается. Преемственность в культуре во многом потеряна. И это совершенно очевидно.
А. М.: Это один из симптомов, но он важен скорее в эмоциональном плане. Подобное отношение к прошлому неизбежно, его не нужно бояться. Мы в этих условиях живем, существуем, это нужно принимать как объективную реальность.
Для меня более важен следующий вопрос — особенности существования школы и ее предназначение в сложившейся ситуации. Здесь мы возвращаемся к актуальной проблеме построения образа национальной идентичности. Советская школа осуществляла задачу формирования идентичности блистательно, в силу того что это был отработанный механизм, безупречно выполнявший свою функцию. А современная школа совсем перестала выполнять эту задачу.
Понятно, что школа (не как социальный институт, а конкретная школа) — это поле взаимодействия четырех разнородных субъектов: детей, родителей, учителей и, конечно, государства. Сегодня мы, говоря о школе, рассуждаем об учителях и их профессиональных проблемах. Государство же представляется в виде некой проекции, «черного человека», который предъявляет требования к школе, к учительскому коллективу. Очевидно, что в этой ситуации школа в лице учителя воспринимает государство как значимый субъект, от которого она ждет четко выраженной позиции. Более того, школа готова воспринимать даже самые неадекватные решения, лишь бы они проясняли позицию государства, формулировали государственный заказ. И не потому, что школа способна быть лишь послушным исполнителем, а в силу необходимости существования внятных общих правил игры. Но, увы, в идеологическом плане ничего подобного не наблюдается.
Ситуация усугубляется еще и опытом последних двух десятилетий. В период переходной постсоветской школы волна перемен смела плотину прежних образовательных устоев и выбросила практически все образовательные учреждения в свободное плавание. Большинство школ, коллективов были в ужасе, не понимая, за что схватиться, чтобы удержаться, как действовать, на что ориентироваться. Но были и такие, которые не только ждали этого наводнения, но и сами его провоцировали и усиливали. Они с радостью «схватились за весла», «оседлали бревна», «сели в шлюпки, корабли» и куда-то поплыли. Кто дальше, смелее, кто осторожнее. Но, как и полагается, через некоторое время наводнение утихомирилось. Те, кто плыл на новой волне, уже не понимают, что делать со ставшими привычными «веслами», которые государство им предлагает отбросить. Но за то время, покуда они барахтались, учились держать курс, они привыкли, что плывут сами, и по-прежнему хотят самостоятельности. Они далеко не всегда знают, куда именно нужно плыть, но они готовы это делать и отвечать за свои решения. А им чем дальше — тем больше ограничивают пространство маневра. Тут и начинаются проблемы. Раз вы не даете нам самостоятельности, тогда скажите, чего вы сами хотите? А те, кто ограничивает, ничего особо и не хотят. Они не могут дать ответ на этот вопрос. Вместо этого мы получаем разного рода имитации, суррогаты целей, программ, круто замешанных на совершенно несовместимых идеологических основаниях.

Еще одна грань сегодняшней дискуссии — это школа в роли социального института, призванная социализировать, но не выполняющая эту функцию. Школа должна обеспечивать связь времен в силу того, что она является неким инерционным (в хорошем смысле слова) механизмом. Школа, если говорить о модернизации, о некоем устремлении вперед, — это уникальный институт, который не только транслирует, но и создает культуру. Это институт, формирующий условия, создающий механизмы, которые должны сработать и начать реализовываться через 10—20—30 лет. Кто же непосредственно должен и кто способен это делать? Те пожилые учительницы, о которых уже шла речь, которые существуют сами по себе и транслируют то, что в них сидит с давнишних пор? Или школы-маяки, требующие самостоятельности? Или государство, которое сейчас никаких стандартов не задает? Боюсь, что и здесь вопрос пока остается открытым. Хотя различные попытки ответить на него активно предпринимаются. Я не так часто, как Михаил Геннадьевич, но, видимо, несколько чаще, чем Александр Фридрихович, сталкивался с представителями власти. В частности, слушал блистательную лекцию Александра Кондакова в рамках семинара по подготовке участников конкурса «Учитель года». Он великолепный оратор, и все, что звучало о замысле стандартов, их структуре и предназначении, было интересно, ценно, цельно и понятно. Но вся стройная конструкция страдала одним, на мой взгляд весьма серьезным, недостатком. И сами стандарты, и все, что об этом говорит наше государство в разные рупоры, звучит одинаково: школа оказывает образовательные услуги и отвечает на запросы — потребности заказчика под названием «общество». Это не проблема языка, а идеологическая проблема. Когда государство, задавая идеологическую основу, говорит, что следует в этом потребности, спросу, оказывает услугу, — государство самоустраняется, государству ничего не надо!
Школа (зрелая современная школа) готова быть посредником между спросом родителей, которые оплачивают образование в форме налогов, и государством как институтом, выполняющим важную социальную функцию. А ей транслируют сверху якобы родительский спрос, непонятно каким образом понятый, и более того — требуют отчитываться за его обеспечение. При всем этом есть еще некий красивый намек на антропологическое содержание образования, которое по привычке заимствуется на Западе, где все уже придумали и все работает. Более всего в этом печалит то, что мы не двигаемся вперед, а пытаемся идти в ногу со временем. А это на практике означает отставать, догонять, сбивать шаг и т. д. Все это, на мой взгляд, следствие неготовности задать конкретную стратегическую цель.
И еще один сюжет хотелось бы непременно осветить. Пять или семь лет назад на встрече учителей, в которой я и присутствующий здесь Михаил Левит принимали участие, был явлен страшный образ, который я до сих пор транслирую с большой осторожностью. Это был образ школы-гетто, то есть замкнутого мира, искусственно вычлененного из общества, в значительной степени оторванного от современных реалий. Это один из наиболее распространенных способов выживания школы сегодня наряду с представлением о школе как о торгово-развлекательном комплексе. По сути здесь мы сталкиваемся с проблемой замкнутости школы на самой себе, ее неспособности отвечать на актуальные и перспективные запросы. Но можно взглянуть на это иначе, подобрать другой, более привычный и приятный русскому слуху коннотативно-позитивный образ: монастырь, входя в который, варвар должен снять меч, оставить оружие. В этом смысле определенная отдаленность школы и специфика ее уклада обуславливается необходимостью выполнять важную функцию социальной преемственности.
Говоря о реальных примерах не просто выживания школы в современных условиях, а поиска и обретения, хотелось бы вспомнить зимние и летние школы под руководством Владимира Головнера (нашего коллеги, замечательного преподавателя химии). Вот уже около 10 лет подряд группа энтузиастов собирает учителей (в зимнее время — локально, в летнее — масштабно), готовых предлагать свои образовательные проекты, и учеников, готовых участвовать в этих проектах, с разных концов России. Они выезжают куда-то, где местные органы управления образованием готовы им помочь, предоставить площадку. И толпа увлеченных ребят за совсем скромные деньги в течение двух недель учится у тех учителей, которые им интересны. Это невероятно интересно и столь же перспективно. И надо искать механизмы взращивания и поддержки таких проектов.
Если же пытаться размышлять глобально, то мы должны учитывать важнейший фактор: российскую педагогическую многоукладность. Я слабо себе представляю, что можно предложить на федеральном уровне, чтобы это работало с учетом целого ряда региональных проблем, социальных, этнических и прочих — и принципиально изменило бы сложившуюся ситуацию.
М. Л.: Образование всегда индуцируется каким-то цехом. Если мы хотим получить приличное образование, мы должны собрать цех учителей. У нас его нет. Он во всем мире есть, а у нас его нету. Цех — это некое сообщество людей, которые умеют что-то делать и которые заинтересованы в том, чтобы качество производимой продукции не было ниже такого уровня, который позволяет им нести знамя и бить в барабаны. И при этом на каждом выпущенном предмете стоит и имя мастера, и имя цеха. Учительский цех — это второй возможный субъект, который мог бы формировать по крайней мере требования к учительству. Когда государ
ство начинает формировать человека, оно не может предъявить требования к учителю. Только цех может формировать требования к своим членам. Сейчас даже самые лучшие учительские коллективы не могут для себя сформулировать ответы на многие вопросы, потому что они не представляют собой цех. Каждая, даже самая хорошая школа — это только одна мастерская. Цех они смогут образовать, если их будет по меньшей мере 50.
В 1990 году мы с Александром Каспржаком собрали съезд советских гимназий. 300 самозванцев, которые назвались гимназиями, во всем Советском Союзе! Это был зародыш цеха. Если бы это превратилось в институцию, то появились бы возможности педагогических мастерских, возможности предъявления каких-то внутрицеховых норм и требований к учительству. Не к учителю истории, точнее — к историку, а к учительству. И без этого, без цехового принципа, ничего не получится. Если говорить о качестве, во всем мире работает только цеховой принцип. А наше государство вместо организации поддержки цехов пытается сделать то, к чему оно не призвано. Вместо того чтобы быть рулем, оно пытается стать мотором.
М. М.: Страшные инварианты будущего видятся и в связи с другими проблемами. Вот конкретный пример. За 20 лет, что существует российская школа, она прошла несколько этапов. И на каждом этапе всегда в пуле журналистов, пишущих про образование, лишь один из двадцати занимался этой проблемой и в прошлом цикле, а потом в своих публикациях выдавал какие-то умные аналогии, с пониманием сюжетов и с выстраиванием линий. Остальные всегда были неофитами, открывали проблему с нуля. Недавно я увидел абсолютное повторение этой картинки там, где меньше всего мне хотелось его увидеть. В Общественной палате, где шло обсуждение лицейского образования. Я услышал мнения, по своей простоте и прозрачности напоминавшие 1991—92 годы. Как будто и не было 20 лет, и мы заново начинаем обсуждать вопросы: для чего, что, из чего...
Приходит в голову совершенно мрачный образ: у нас есть весла, и мы гребем, но вода уже ушла, и мы царапаем своими веслами по вечной мерзлоте. Государство ничего нового не придумывает, оно находится в колебаниях между двумя крайностями: то ли образование — это развитие, модернизация и изменения, то ли образование необходимо для социального мира, спокойствия и т. д. Выбрать что-то одно принципиально невозможно. Но управлять мерой — это способ существования зрелого государства, зрелого общества. Как мне кажется, то, что сегодня обозначалось как «проблема языка», — на самом деле сейчас не проблема. Это правда семантического поля, в котором государство и заказчики значительно умнее, подсознательно, интуитивно умнее, чем произнесенные ими не всегда умные окончательные слова. Они точно знают, в какую сторону поворачивать, а в какую не поворачивать. Туда, где будут развиваться подтексты, и туда, где будет потенциал дальше реализован.
Мне кажется, что сегодняшнее государство совершенно точно употребляет те слова (и «услуги» в том числе), которые смоделируют инвариант его поведения в ближайшие десятилетия. Манипулятивно-волевым образом государство выпустит на школу заказчика, которому будут показаны предварительные условия, сформулированные государством, и предложен выбор. И если профессиональное сообщество не договорится, то выбор будет упрощенным и примитивным, основанным только лишь на критериях успешности.
М. Л.: В скором будущем будет принят новый Закон об образовании, который превратит учителя в индивидуального работника по предоставлению номенклатурных услуг. Учитель станет участником гражданского процесса. Закон об образовании 1992 года был своеобразной цеховой декларацией о намерениях. После некоторой доработки он смог бы стать отличным материалом для составления цехового статута, который бы мог создать действительно учительский цех.
М. М.: 19 апреля нынешнего года состоялся водораздел, который сделал все то, о чем мы сегодня говорили, невозможным или маловероятным. На совещании по вопросам школьного образования в Петербурге Дмитрий Медведев предложил идею создания общественно-профессиональной организации школьных директоров. Эта организация рука об руку с государством займется аттестацией, общественно-профессиональной аккредитацией и т. д. Она инициирована государством, и она будет встроена в государственные процессы. И она будет укомплектована директорами, готовыми активно участвовать в процессах реформирования школы.
С. В.: Я не хочу рассматривать как школу всю систему образования. По мне школа — это коллектив, организм. Приказы сверху, какие-то перестройки, новые принципы финансирования, которые спускают чиновники, — все это, на мой взгляд, не имеет никакого отношения к тому, что называется образованием. Образование происходит в той точке, где встречаются люди и начинают друг с другом говорить.
В Омской области я был в маленьком районном центре Москаленки. Казалось бы, чего можно ждать от города с таким названием? И от центра он очень далеко, и по населению невелик. Но там при помощи людей из Омского центра развития образования и из Британского совета придумали совершенно необыкновенную, передовую вещь.
В районе восемь обычных школ. Еще четыре сельские школы, одна гимназия, один лицей. При этом в гимназии преподает суперлитератор, о котором известно всем, в лицее — необыкновенный физик, а в деревне некий дядя Вася учит делать изумительные столярные вещи. И все девятиклассники района (это порядка двухсот человек) собираются в конце года в ДК на педагогическую ярмарку, где все учителя из всех этих школ рассказывают, что они могут и что будут делать. Затем для района составляется единое расписание, и дети четыре дня учатся в своих школах, а два дня — в разъездных. Потому что если я живу в деревне, но хочу учиться у этого физика, я должен получить эту возможность. И чтобы ее обеспечить, выделены автобусы, составляется расписание, директора деревенских школ рассказывают родителям, что такое Болонский процесс и зачем он нужен. Один из этих директоров рассказывал мне: «Я всех собрал, запер в клубе и пока не рассказал о Болонском процессе, никого не отпустил». И это в деревне с населением 600 человек!
В результате за несколько лет существования этого проекта в районе повысилась рождаемость, они вынуждены были даже построить роддом. К ним стали ехать люди. У них появились образовательные перспективы, их дети поступают в вузы и уезжают. Я спрашиваю того же директора, для кого вы печете кадры? В ответ он сказал мне две потрясающие вещи. Первая:
Мы же должны улучшать мир. Так и улучшаем.
И вторая:
Те, кто остается, подтягиваются за уехавшими. Остающийся контингент тоже лучше, чем он был раньше.