Журнальный клуб Интелрос » Отечественные записки » №6, 2013
«Если бы у Анны Карениной был доступ в интернет, она бы не покончила с собой». Это провокационная фраза из рекламы имевшего большой успех болгарского фильма «Love@net». В фильме нет политики — только Сеть и секс, больше реальный, чем виртуальный: мы пока на полпути в будущее.
Я начала с этого фильма, потому что он демонстрирует две особенности сетевого поколения: социализация сегодня происходит посредством интернета. В фильме показаны три члена одного семейства: каждый в своей комнате, каждый общается со своим компьютером. Школа — это то, что прогуливают. Новости — только те, что можно увидеть в интернете.
В этой сетевой жизни нет политики. Политика, однако, должна каким-то образом соотноситься с этими тремя людьми, живущими в интернете.
Цель моей статьи — проанализировать переход от демократических преобразований общества к сетевым, рассмотрев этот процесс в связи с трансформацией самого понятия гражданства: от крепнущего гражданина общественного к мельчающему гражданину частному; а также в связи с трансформацией прямой демократии в представительную. В нашем анализе мы будем пользоваться несколькими тройственными определениями («триадами»): три формы неучастия и три типа участия, или сетевого гражданства. Мы представим три этапа общественных и политических изменений: коммунистический период — обязательность формальной ангажированности; период демократических преобразований — открытие возможностей различной (не)ангажированности; период сетевых преобразований — появление демократии «клика».
Старый режим: обязательная ангажированность
Анекдот коммунистической эпохи: на партийном собрании обсуждают только что проведенную демонстрацию трудящихся в очередную годовщину коммунистической революции. Генеральный секретарь строго критикует партийное руководство: вы плохо справились с заданием, на лицах демонстрантов не было видно непринужденной радости[1].
Этот анекдот иллюстрирует основные требования, предъявляемые к политической включенности (ангажированности) при коммунизме: надо было иметь счастливый вид, грусть и меланхолия воспринимались как оскорбление власти; под бдительным партийным оком надо было проявлятьестественность, непосредственность; но в первую очередь требовалась формальная включенность, членство, ангажированность. Ангажированность была не правом, а обязанностью. Ее требовали от всех — мужчин и женщин, интеллигентов и рабочих, подростков и взрослых.
С какого возраста начинается ангажированность? Коммунистический режим имел точный ответ: с восьми лет. На Западе сама мысль о политической социализации детей воспринималась как шокирующая. Когда в 1960-е годы Анник Першерон начала свои новаторские исследования политической социализации, это вызвало настороженность и в научных кругах, и в общественном мнении. «Ее работа постоянно встречала сопротивление родителей и педагогов, добивавшихся приостановки и даже запрета проводимых ею опросов; доходило до сжигания опросных листов на школьном дворе»[2]. С тем же рвением, с которым на Западе ограждали мир детства от политики, на Востоке старались добиться политической ангажированности граждан с самого раннего возраста.
Имелась целая серия организаций, обеспечивавшая непрерывность членства в любом возрасте: с 8 до 13 лет, затем с 13 до 16 и выше — самая известная комсомол. Мне до сих пор вспоминается этот солнечный день, ощущение необычности и начинающегося приключения, когда вместо школьных уроков нас везут на экскурсию. В первый раз увидеть границу и солдат, которые ее охраняют, услышать рассказы об их подвигах, поиграть со служебными собаками, участвовать в торжественном обряде приема в пионерcкую организацию[3], принять от этих солдат, которых внушенные нам фантасмагорические представления превращали в героев, голубые пионерские галстуки как символ нашего нового членства. В течение следующих лет исключительность этой инициации только подчеркивалась: в закрытом обществе граница страны, запретная и недоступная, получает почти сакральное значение, становится зримым знаком единения народа и государства в одном могучем и пламенном Мы.
Этими обрядами инициации отмечалось начало включения детей и подростков в политическую общность. Посвящение в членство отмечалось целым набором символов, в первую очередь галстуком — сначала голубым, потом алым.
Ангажированность начиналась раньше, чем подросток достигал зрелости. Эмоциональное предшествовало рациональному, чувства заменяли опыт и навыки.
Коммунистические представления об ангажированном гражданине весьма парадоксальны: в то время как в идеологическом плане гражданство и ангажированность были теснейшим образом связаны, в плане политическом они часто разделялись полностью. Этот разрыв выражался трояко: в предпочтении членства участию; в дифференциации прав; в пренебрежении верховенством закона.
Гражданство имеет две стороны, оно является одновременно принадлежностью и участием. Коммунизм сделал из них некую смесь, утопив активный аспект в пассивном. Членов любой коммунистической организации — пионерской, комсомольской, профсоюзной и партийной — было больше, чем активных граждан. Болгарская компартия насчитывала миллион членов, при общей численности населения в восемь миллионов. Однако, несмотря на свое могущество, партия не могла до конца воплотить в жизнь идеал тотально ангажированного населения, которое имело бы атрибуты «членства», но было бы лишено всякой инициативы и самостоятельного участия. Чтобы поправить положение, была придумана другая организация: Национальный фронт. Любая организация по определению представляет чьи-то конкретные интересы и поэтому ограниченна; коммунизм же хотел создать общество, в котором все ограничения преодолены. Национальный фронт был карикатурой на такой режим: всеобщая вовлеченность при полном отсутствии активности.
Второй аспект указанного выше разрыва состоит в дифференциации прав. По знаменитому определению Томаса Маршалла[4], гражданство имеет три измерения: гражданство правовое, выражающееся в пользовании правами и свободами (личной свободой, свободой слова, свободой иметь собственность), гарантированными правовым государством, в котором главенствующую роль играет закон; гражданство политическое, определяемое как пользование политическими правами (право избирать и быть избранным, право на информацию, право на участие в политической жизни), гарантированными всеобщим избирательным правом и определяющей ролью парламента; гражданство социальное, выражающееся в правовых обязательствах (право на социальную защиту, на медицинское обслуживание, на образование, на труд), гарантируемых институтами государства всеобщего благосостояния. Коммунистические государства сделали основной упор на социальное гражданство, отодвинув гражданство правовое и политическое на задний план.
Еще на заре Нового времени понятие гражданства тесно связывается с представлением о верховенстве закона. Все мыслители, от античных философов до Монтескье, определяли гражданство как возможность наслаждаться благами законности — нечто прямо противоположное тирании. Эта связь — третья причина идеологической настороженности коммунизма в отношении гражданства. Маркс сам не ставит под сомнение эту связь гражданства с законностью. Его критика обрушивается на то, какую форму приняло гражданство, на разрыв между естественным человеком — трудящимся и абстрактным человеком — гражданином буржуазного общества. Он хочет построить общество, в котором трудящийся и гражданин будут едины[5]. Порвав с заветами своего классика, коммунизм не только не объединил трудящегося и гражданина, но разделил их в еще большей мере.
Коммунистическое гражданство — не столько гражданство, сколько членство. Оно утратило свои важнейшие атрибуты: главенство закона, которым утверждается «арифметическое равенство» людей, а сильные этого мира оттесняются на задний план; пользование правами и свободами и возможность политической активности (вместо чего обеспечивается лишь социальная защищенность); активное участие (вместо чего предлагается лишь пассивная принадлежность к общности).
Индивидуум при коммунизме был ангажирован не потому, что это был его свободный выбор, а потому, что не мог по своему свободному выбору оставаться не ангажированным.
Период демократических преобразований: возможности уйти от ангажированности
Падение коммунизма было сплошным гигантским праздником, всплеском естественной радости: концерты звезд рок-музыки на площадях, уличные шествия сотен тысяч людей, «город истины», палатки напротив здания ЦК компартии, нескончаемое театрализованное зрелище антиправительственных протестов, студенты и анархисты блокируют перекрестки...
 «Нет ничего слаще свободы». Источник столь бурного разлива политических эмоций был указан еще Цицероном. «Свобода не в том, чтобы иметь справедливого владыку, а в том, чтобы не иметь никакого, быть самому себе владыкой»**. Это неповторимое всеобщее возбуждение всегда объяснялось магией революций, восторгом народа, возвращающего себе ту роль, которую он имел в республиканском Риме, — источника и мерила власти[6].
«Нет ничего слаще свободы». Источник столь бурного разлива политических эмоций был указан еще Цицероном. «Свобода не в том, чтобы иметь справедливого владыку, а в том, чтобы не иметь никакого, быть самому себе владыкой»**. Это неповторимое всеобщее возбуждение всегда объяснялось магией революций, восторгом народа, возвращающего себе ту роль, которую он имел в республиканском Риме, — источника и мерила власти[6].
Посткоммунистическое гражданство совместило в себе Грецию и Рим, идеи гражданства и согражданства, соединило греческую концепцию полиса и, далее, гражданина полиса с римской концепцией города как общества сограждан и гражданства как взаимного долга.
Возбуждение угасло, вскоре граждане ушли с площадей, а избиратели... от урн. Место крепнущего гражданина общественного занял мельчающий гражданин частный[7].
Далее мы анализируем ангажированность на стыке индивидуального и гражданского, выделяя три формы новой неангажированности: протестную, «бонапартистскую» и индивидуалистскую, а также три формы новой ангажированности: подражательную, героическую, гражданскую.
Неангажированность
Неучастие
«Действительно ли воздерживающийся от участия в политической игре перестает в ней участвовать?»[8] — задают вопрос политологи. Есть разные способы действовать и существовать в политике. Отстранение от участия в политической игре не обязательно означает отказ, выход из нее[9]. Ингельхарт описывает эволюцию политической культуры как переход к меньшей институциональности и большей индивидуализации[10]. Жаффр и Мюксель анализируют современную тенденцию к уходу в частную жизнь и отдалению от восприятия политического через существующие институты, к безразличию, рассматривая ее как проявление отказа от обычных и традиционных форм политической культуры в пользу пока еще не очень понятных форм политического участия, характеризующихся интересом к более индивидуализированной ангажированности[11]. Не участвовать, чтобы уйти от политики или чтобы присутствовать в ней по-другому — этот вопрос находится в центре размышлений о посткоммунистическом отказе от участия в политической жизни.
Неучастие, абстенционизм — это посткоммунистическое открытие. Никакое современное общество не любит апатии, она есть проявление и результат кризиса демократии. Если, тем не менее, демократические общества к этой болезни приспосабливаются, то общества тоталитарные ее запрещают. Нельзя было избежать принятия в пионеры, профсоюзные взносы вычитались из зарплаты автоматически, отсутствие на демонстрации трудящихся в день государственного праздника не обязательно приводило к увольнению, но могло иметь последствия для карьеры. Коммунизм требовал участия.
Посткоммунистический индивидуум полюбил неучастие. При коммунизме отсутствовал выбор между несколькими конкурирующими кандидатами, но тем более отсутствовала возможность не голосовать за единственного кандидата. Коммунизм — это амбициозное общество, оно требовало от граждан не просто подчинения, но знаков активной поддержки и ангажированности. Посткоммунистическому гражданину понравилась конкуренция между различными предложениями, но в равной мере ему понравилась возможность вообще не выбирать.
В начале переходного периода, да и сегодня, неучастие воспринимается положительно: одновременно и как проявление свободы, политических прав, и как форма протеста, критики и неприятия политической элиты.
Бонапартизм
Что делать обществу, которое не восприняло демократической культуры участия, но интересуется политикой? Ответ — выдвинуть харизматического лидера. Посткоммунизм открыл собственную версию бонапартизма: объединение лидера и простого народа против властей.
В своей замечательной работе «Одинокая толпа» Дэвид Ризман описывает три типа граждан с различным отношением к политике: безразличный, заинтересованный, наблюдатель[12]. Безразличный не голосует не потому, что хочет наказать политиков, но потому, что не видит связи между «большим» миром политики и собственным «маленьким» миром.
На другом полюсе — заинтересованный: он следит за событиями, он возбужден, он участвует. Он видит связь между политикой и собственным миром, более того — он уверен, что политика должна служить его интересам. Он представлен двумя противоположными типами: энтузиаст и негодующий. Первый верит в изменения и хочет изменений, делает все, чтобы они произошли. Второй никогда не доволен, это перманентный критик. Оба они, как энтузиаст, так и негодующий, возлагают большие надежды на политику, хотя и противоположным образом.
Наблюдатель похож на безразличного почти полным отсутствием деятельности, но отличается от него тем, что понимает мир политики. Его можно назвать «собирателем информации»: он собирает разные точки зрения, вырабатывает собственное мнение, понимает, что политика — сложная область. Он более толерантен, чем заинтересованный, но по сомнительной причине: в отличие от заинтересованного он не верит, что политика может выражать и защищать его подлинные интересы. Именно по этой причине он не возлагает на нее больших надежд и открыт для различных видений будущего. Он рассудительно не вмешивается, предпочитает наблюдение участию. Он не связывает политику с «подлинными» ценностями, интересами и идеалами, он склонен видеть в ней занимательный спектакль.
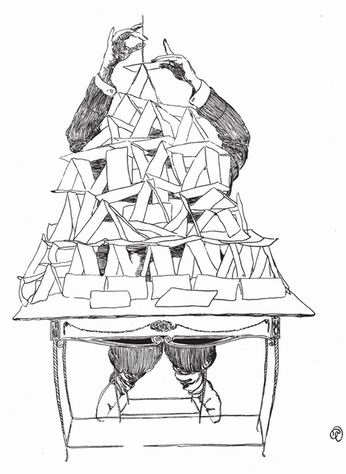
Этот взгляд хорошо выражен в фильме «Блондинка в законе», который очень любит поколение моих дочерей и моих студентов. В нем дается социологический портрет этого нового типа личности: красивая девушка, одевается, как Барби, но при этом с блеском кончает Гарвард и, более того, умеет разрешать сложные вопросы самым невероятным, оригинальным и впечатляющим образом. Этакая смесь легкости и игрового начала, напоминающая о невесомой современности Зигмунта Баумана и легком текучем обществе Жиля Липовецкого[13].
Типология, предложенная Ризманом, хорошо соотносится с посткоммунистической реальностью, но ее проекция на временные периоды — гораздо хуже. Три типа личностей соответствуют, с его точки зрения, трем типам политической культуры: традиционной, модернистской и постмодернистской. Однако посткоммунизм порождает другой диахронный ряд. В самом начале переходного периода он вывел на передний план негодующего и энтузиаста. Когда прошла эйфория и политика ушла из публичной сферы, перед экраном уселся наблюдатель, чтобы смотреть политический спектакль. Спектакль посткоммунизма был настолько увлекательным, что отодвинул все другие измерения политической жизни, в частности различные формы публичной политики. Коммунистическое социальное государство похоронено, посткоммунистическое социальное государство еще только с трудом создается. Когда государство забывает о своих самых слабых гражданах, эти последние уходят из политической сферы. Безразличный — это не наследие коммунизма, это изобретение посткоммунизма.
Трем типам избирателей — энтузиасту, негодующему и наблюдателю — соответствуют три типа лидеров.
Желю Желев, диссидент, лидер демократической оппозиции на заре переходного периода и первый болгарский президент, представляет собой первый тип. Он пришел к власти как носитель идей преобразований и нового политического идеала. Двадцать лет посткоммунизма лишь подтвердили исключительный характер его личности: это один из немногих политиков первой волны, оставшийся верным своим ценностям и высокому уровню политической морали. Он не был «вождем», не имел «имиджа» и проводил отпуск за рыбной ловлей в родной деревне.
Весьма характерно, что «негодующие» лидеры появились на болгарской политической сцене более чем через десять лет после начала переходного периода. Разочарованию в демократии понадобились многие годы, чтобы превратиться в электоральную энергию и кристаллизироваться в харизматической фигуре лидера «Атаки», первой откровенно ксенофобской партии, не скрывающей своих намерений***. Экстремистский дискурс не всегда лжет. Перемешивая факты, их интерпретацию и пафос, он формирует двойной месседж: «плохие» — это Другие, и Другие — все поголовно «плохие». Мы присутствуем при вырождении демократии в демагогию.
Третья фигура наиболее символична. Бойко Борисов, нынешний премьер-министр, уже восемь лет самый популярный политик в стране. Он воплощает тип self-made-man по-болгарски: пожарный, телохранитель[14], затем основатель собственной партии, мэр Софии и, наконец, премьер-министр. Фигура Борисова переворачивает привычную зависимость: популярность больше не является результатом деятельности на политической арене, она, наоборот, оказывается ее причиной. Б. Борисов — не политик, добившийся доверия общества, но человек, которому личная популярность помогла превратиться в политика и лидера. Борисова ласково называют «батя Бойко», «братан Бойко», делая его чем-то вроде всесильного и благосклонного Большого Брата. Общественное мнение ожидает, что он, как герой или волшебник, преодолеет два бедствия: коррупцию и кризис. Эти ожидания настолько сильны, что Борисов превращает их в политический капитал. Он не захотел ни с кем войти в коалицию и предпочел создать правительство меньшинства[15], чтобы укрепить этим свою репутацию самого сильного лидера, способного стать над политической арифметикой и настоять на своей воле. Чем более харизматична власть, тем менее избиратели остаются гражданами.
За всеми этими тремя сильно различающимися фигурами — ответственного президента, лидера-экстремиста и любимого народом премьер-министра-популиста — просматривается общая тенденция: перепроизводство лидеров[16] и недопроизводство граждан.
Харизматический лидер и народ, единодушно выступающие против коррумпированной элиты, — такова политическая сцена в Болгарии после двадцати лет демократических преобразований.
Индивидуализм
В отличие от первых двух видов ухода от ангажированности — неучастия и бонапартизма, имеющих политический характер, третий вид имеет характер социологический: возникновение посткоммунистического индивидуализма[17].
Поль Маньетт различает две исторические формы личности: рыцарскую и рациональную, аристократическую и буржуазную[18]. Первая — человек страстный и честолюбивый, вторая — умеренный, продающий и покупающий, подсчитывающий прибыль и риски.
Посткоммунизм всего за несколько лет прошел путь от первого типа ко второму, желая, однако, воспользоваться символической ценностью обоих. Посткоммунизм ориентировался на рынок и на первоначальное накопление капитала, но при этом предпочел героическую версию: журнал с красноречивым названием «Капитал», рупор новой экономической элиты, ведет специальную рубрику «Герои капитализма». Он рисует портрет такого «героя»: преуспевающий, молодой, нахальный. Большое рекламное панно в центре столицы гордо провозглашает его принцип: «Другие следуют правилам, мы их создаем».
Новый индивидуалист эпохи посткоммунизма уверен, что big is beautiful: «мазерати», «майбахи», «бентли», яхты, личные самолеты, сигары, стоимость которых выше, чем зарплата курильщика. Рональд Ингельхарт пишет о появлении целого ряда постматериалистических ценностей, которые диктуют предпочтение качества, заботы об окружающей среде, меньшинств, Других[19]. Но в Восточной Европе можно говорить не о «постматериализме», а о «гиперматериализме». Вот как описывает такую гиперсовременность Жиль Липовецки: супермаркетов больше недостаточно, строят гипермаркеты для удовлетворения неутолимой жажды иметь все больше, самое новое, самое необычное. Стоит ли удивляться тому, что именно Липовецки, а не Ингельхарт был награжден в Болгарии титулом doctor honoris causa[20]?
Посткоммунистический индивидуализм удаляется из публичной сферы и воспевает частную. Как писал Бенжамен Констан, «пусть государство печется только о справедливости, а нашим счастьем мы займемся сами»[21]. Следуя французскому писателю, посткоммунистический индивидуалист доверяет лишь себе. В отличие от Констана он вообще не доверяет государству — даже в минималистском варианте.
 Связь между индивидуальностью и гражданственностью является решающей для демократизации. З. Бауман указывает, что сейчас не публичная сфера вторгается в частное пространство, но наоборот — частная сфера оккупирует публичное пространство, напоминая нам о предупреждении Токвиля: индивидуальное — самый большой враг общественного[22].
Связь между индивидуальностью и гражданственностью является решающей для демократизации. З. Бауман указывает, что сейчас не публичная сфера вторгается в частное пространство, но наоборот — частная сфера оккупирует публичное пространство, напоминая нам о предупреждении Токвиля: индивидуальное — самый большой враг общественного[22].
Жан Лека так определяет дилемму демократической теории[23]: на чем основано гражданство? На культуре участия, ориентированной на вклад каждого? В этом случае мы рискуем попасть в западню холизма в разных его формах, от более мягких до более тоталитарных. Коммунизм уже осуществил весь мыслимый набор таких экспериментов. Или на культуре индивидуализма, ориентированной на результаты? В этом случае трудно избежать риска «разложения публичного пространства» (Токвиль). Посткоммунизм демонстрирует, к чему это приводит[24].
Неучастие, бонапартизм, индивидуализм — это три разных лика общего явления — неангажированности в делах полиса, в гражданской общности. Индивидуализм — социологическая база для ухода из политики, захвата частной сферой публичного пространства. Бонапартизм — опасность для упрочения демократии, поскольку он деформирует и искажает интерес к политике. Неучастие — опасность для всех демократий, но в Восточной Европе эта опасность серьезнее по двум противоположным причинам: с одной стороны, апатию не хочется преодолевать, потому что она воспринимается положительно, как форма освобождения от опеки вездесущей и требовательной власти и как критика коррумпированных элит, а с другой стороны, ее невозможно преодолеть, потому что нет убедительных альтернатив, которые позволили бы перейти к ангажированности и активным действиям.
Ангажированность
Для поддержания симметричности рассуждений я рассмотрю здесь три типа ангажированности: подражательную, героическую, гражданскую.
Подражательная ангажированность
Запад хотел воссоздать Восток по своему образу. Восток хотел быть воссозданным по образу Запада. Нужно было связать эти преобразования с соответствующим деятелем, и в качестве такового выступили НГО — негосударственные (или неправительственные) организации.
Представитель одной маленькой сербской НГО рассказывает о своем опыте: «В январе 2000 г. (до падения Милошевича) я был приглашен в Швецию на встречу с одним министром. Тот же министр через несколько месяцев, в ноябре того же года (после падения Милошевича), встречался уже с президентом Коштуницей. Итак, в январе я был собеседником этого министра, но кем я был в тот момент? Всего лишь одним из пяти сотрудников маленькой НГО, с несколькими проектами и несколькими компьютерами. Но для него тогда я представлял Сербию!»25
Как ни парадоксально, чем более маргинальной и нерепрезентативной была та или иная НГО в начале переходного периода, тем в большей мере Запад считал ее легитимной по причине отсутствия у нее связей с прежним режимом. Гражданское общество рассматривалось как чудесный источник преобразований, как квинтэссенция светлого будущего. С целью стимулировать развитие гражданского участия Запад вложил в наши НГО миллионы долларов.
Верно ли, что посткоммунистический гражданин родился и вырос в НГО? Тут следует отдельно рассмотреть два результата деятельности этих организаций. Первый результат — институционализация участия. НГО являются посткоммунистической версией гражданского общества. В развитых демократиях оно в гораздо большей мере реализуется в различных ассоциациях, церковных организациях, университетах, профсоюзах, кооперативах... Щедрое западное финансирование НГО в Болгарии имело следствием то, что именно в них сконцентрировалось гражданское участие, а другие, менее институциализированные формы гражданских инициатив: клубы, группы по интересам, сети и т. д. оказались на обочине. Парадоксальным образом в целях развития гражданского общества поддерживались не столько структуры, сколько виды деятельности, и не столько граждане, сколько организации. Таким образом, формирование и умножение категории активных и ангажированных граждан, которые объединяются для достижения разнообразных и свободно меняющихся целей, пока еще остается задачей на будущее[25].
Второй результат — профессионализация ангажированности. Беглый обзор вакансий, предлагаемых в секторе НГО и в бизнесе, показывает, что требования к кандидатам практически одинаковы: прекрасное владение английским, отличная коммуникабельность, умение работать в команде. Компетентный, динамичный, эффективный — таков профиль активиста НГО. Он настолько уверен в себе, что выстраивает свой собственный мир, используя прекрасно знакомый ему проектно-ориентированный язык и ставя амбициозную цель построения демократии, в достижении которой ему поможет его профессиональная подготовка.
Гражданское призвание превращается в профессию[26], и креативность при этом может быть подменена эффективностью. Фигура волонтера до сих пор не вышла на первый план. Если НГО — сфера деятельности профессионалов, то где же то общественное пространство, в котором граждане-«любители» могут пробовать и ошибаться, искать, спорить, экспериментировать?
Героическая ангажированность
Все граждане Спарты были солдатами. Женщины из этого героического гражданства были исключены — они признавались гражданками, но не имели политических прав.
Посткоммунизм тоже порождает ангажированность в формах, продолжающих эту воинственную мужскую традицию: так, в Болгарии небольшие экстремистские группы организуют «национальную гвардию», чтобы бороться с преступниками и цыганами, часто смешивая тех и других. Они немногочисленны, но их агрессивность не уравновешивается какой-либо противоположной силой, поскольку никто не озабочен отсутствием политической корректности. В посткоммунистических странах почти нет иммигрантов из Африки, но все они каждый день сталкиваются с проявлениями расизма. В течение первого переходного десятилетия ксенофобские настроения проявлялись в болгарском обществе, но не в политике. Парадоксальным образом именно тогда, когда демократия в стране окрепла, эти настроения получили свое политическое выражение в экстремистской партии с символичным названием «Атака». Впервые пройдя в парламент в 2005 году, она осталась и в парламенте следующего созыва, а также укрепилась на уровне местных органов власти. На президентских выборах, как и во Франции, ее лидер вышел во второй тур, оставив позади себя кандидатов классических правых[27].
Как отмечает Джованни Сартори, в сороковые годы все знали, что такое демократия, и испытывали по отношению к ней одно из двух противоположных чувств: либо любили, либо не любили[28]. Через сорок лет демократия утвердила себя в качестве политической корректности, но что такое демократия, мы больше не знаем, не можем прийти к согласию по этому вопросу. Посткоммунизм прошел ту же трансформацию за пятнадцать лет, и сегодня никто не понимает, является ли партия «Атака» частью демократического плюрализма или представляет собой его отрицание. Та же неуверенность присутствует в оценках форм ангажированности, присущих этой партии, отличающихся высокой активностью, но сомнительными целями: «Атака» выступает за безопасность, но против «других», за национальную идентичность, но против различий.
Есть два типа гражданина. Гражданин «на английский лад» — в первую очередь либерал, хотя его либерализм с течением времени демократизировался.
Гражданин «на французский лад» — в первую очередь демократ. «Демократические принципы для него не обязательно предполагают уважение фундаментальных свобод и либеральных ценностей»[29].
Посткоммунистический гражданин больше демократ, чем либерал, его понимание гражданства основано на республиканском ассимиляторстве: в публичном пространстве культурные и этнические различия должны стираться. Этот политический идеал обладает мобилизационной силой.
Гражданская ангажированность
Есть две различные концепции гражданства; первая понимает его как обладание статусом, документом, мандатом, вторая — как ответственность за взятую на себя благородную миссию. Этим двум концепциям соответствуют два разных типа участия: первый — пассивная политическая позиция, реализуемая в делегировании мандата, второй — позиция активная, реализуемая прямым участием.
Посткоммунизм продолжает колся между этими двумя концепциями. Пока что делегирование мандата преобладает над прямым участием, которое, впрочем, проявляется в разнообразных новых формах. Недавние исследования[30] показывают, что социальная энергия граждан посткоммунистических обществ мобилизуется в конфликтах четырех типов: социальных, символических, этнических и экологических. Я рассмотрю здесь лишь последний случай, поскольку он лучше всего иллюстрирует гражданскую ангажированность.
Посткоммунистический капитализм, не уважающий личность, еще меньше уважает природу. Бездомные, бесправные, изгои общества не смогли вызвать в молодых людях чувство солидарности и пробудить ее энергию; зато безответственность бизнеса, приводящая к гибели птиц, пляжей, лесов, вызывает в них негодование и побуждает к действию. Экологические конфликты оказывают двойное положительное влияние на общество: они создают подлинную вторую власть, противостоящую государству, которое зачастую потакает безответственному бизнесу, губящему природу; кроме того, в основном именно они смогли привлечь внимание молодежи, по большей части аполитичной, мобилизовать ее, пробудить в ней энтузиазм[31].
Рассмотренные нами примеры разных видов новой ангажированности показывают, что их источники пока еще относительно немногочисленны и зачастую нестабильны; в первом случае это внешнее финансирование, во втором — сомнительная идея ксенофобского национализма. Лишь в третьем случае мы имеем пример подлинно гражданской ангажированности, возникшей из беспокойства о состоянии окружающей среды.
Токвиль отмечает значение частного активизма как инструмента гражданственности. Народное правительство, вовлекая граждан в управление республикой, этим убеждает их в тождественности их частных интересов общему интересу. Между демократическим обществом и политической демократией устанавливается положительная обратная связь: социальная активность способствует возрастанию гражданственности, которая в свою очередь поощряет социальную активность[32].
Для посткоммунистических обществ установление этой положительной обратной связи пока остается трудной задачей.
Тройная задача
Индивидуум при коммунизме был ангажирован, но не был гражданином. Центр его активности находился вне его самого — в пионерской организации, в комсомоле, в партии...
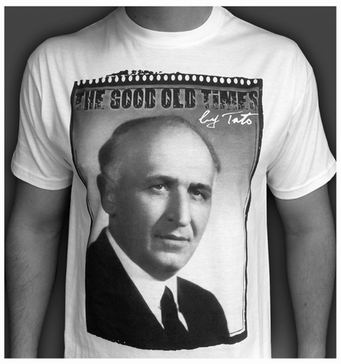
Посткоммунистический индивидуум смог интериоризовать центр своей активности. Он в этом преуспел настолько, что стал индивидуалистом. Джон Стюарт Милль проницательно отмечает, что демократия постоянно разрывается между необходимостью, с одной стороны, поощрять индивидуализм, с другой — бороться с ним[33]. Индивидуализм равно далек от ангажированности и от гражданственности. За два первых десятилетия посткоммунистической демократизации уменьшить этот разрыв не удалось. Для того чтобы в течение следующих десятилетий в обществе по-настоящему утвердилась фигура ангажированного гражданина, надо будет решить тройную задачу:
— изменить соотношение неангажированности и ангажированности в пользу второй и предотвратить тем самым «вырождение публичного пространства»;
— стимулировать ангажированность, но не позволять ей превратиться в профессию, давая дорогу волонтерскому движению и гражданскому творчеству;
— избежать опасности, описанной Монтескье, — когда власть не ограничена законом и правит так, что никто не чувствует себя гражданином; содействовать развитию личности, но так, чтобы свобода индивидуума не уничтожала свободу гражданина.
Цифровая революция: возникновение демократии «клика»
Три формы неучастия
Формы неучастия различаются в зависимости от степени информационно-сетевой оснащенности («оцифрованности») соответствующей социальной группы. Я рассматриваю три такие группы: «неподключенные», «подключенные» и «гиперподключенные» (к интернету).
Fracture digitate vs facture digitate (информационное неравенство и стоимость подключения) — этой удачной игрой французских слов Доминик Вольтон описывает современное социальное неравенство[34]. Мы берем в качестве точки отсчета группу «неподключенных» — не тех, кто по своему свободному выбору не подключается к Сети, а тех, кто просто не может этого сделать, у кого такого выбора нет. Онтологический вес этой группы более значителен, чем всех социальных групп, которые описывает Д. Вольтон.
Подключенные интенсивно участвуют в процессах экспериментирования со своим Я и его мультипликации. Мы используем здесь термин «Я» в русле двух социологических течений: интеракционизма Джорджа Герберта Мида, в котором проводится различие между индивидуальным Я и социальным Я, и теории субъектности Алена Турена, в которой Субъект характеризуется постоянной рефлексией Я о собственной идентичности.
Присутствие «подключенных» в Сети интенсивно и разнообразно. В нем можно различить две тенденции: игры со своей идентичностью вместо гражданской ангажированности, и мультипликацию частных идентичностей, а не общественных граждан[35].
Эти тенденции носят универсальный характер. Вторая, однако, в контексте коммунизма и посткоммунизма имеет три четко проявленные особенности. Коммунизм требует строгой социализации, при которой социальное Я должно главенствовать над индивидуальным Я. Конструктивный центр индивидуума перемещен вовне. Сетевое («электронное») общество характеризуется самосоциализацией. Этим оксюмороном я хочу подчеркнуть, что в сетевом обществе конструктивный центр социального Я помещен внутри Я, так что индивидуальное Я возвращает себе главенство над Я социальным.
При коммунизме конструирование субъекта (в смысле, придававшемся этому слову при старом режиме, не в смысле Алена Турена) было серьезным делом. Для примера можно вспомнить роман Кундеры «Шутка», где описывается, как простая шутка приводит к краху карьеры и всей жизни персонажа. Напротив, в сетевом обществе конструирование своего Я, уже в смысле Алена Турена, — это игра, азартная и творческая.
Если первая особенность (пост)коммунизма связана с процессом социализации, а вторая — с конструированием субъекта, то третья — с отношением ко времени. Излюбленное время коммунизма — будущее; напротив, сетевое общество — целиком в настоящем, это плоская темпоральность без всякой толщины. «Больше нет коллективной надежды на будущее, мы хотим личного успеха в настоящем»[36].
Гиперподключенные — термин, перенесенный на сетевое общество по аналогии с «обществом гипермодерна» Липовецкого, которое одержимо стремлением к самому большому, самому престижному, всему самому-самому. Они поддерживают по три требования в день и подписываются под десятью электронными петициями в неделю, но ни во что не включаются по-настоящему. «Гиперподключенные» — это граждане демократии в один клик (clickdemocracy).
Три формы участия, или сетевого гражданства
Информированный. Этот тип сетевого гражданина напоминает третий тип в классификации Д. Ризмана, а именно тип собирателя информации, характеристики которого он воплощает в усиленном варианте. Он регулярно и беспрепятственно получает информацию, отличается критическим взглядом на мир, ангажирован в меру и с оглядкой. Он разделяет, но одновременно подвергает сомнению то, что Д. Вольтон называет «фантастическим представлением о западной культуре» как универсальной, доступной всем и идущей всем на пользу[37].
Ненавистник. Гипертрофированное использование Сети для выражения яростного гнева — большая проблема как для политиков, так и для исследователей. Непонятно, как подсчитать количество «ненавистников» — их действительно больше, чем других, или они просто более заметны? Непонятно, как к ним относиться — воплощают ли они новый сетевой экстремизм («нам нравится сообща ненавидеть в Сети») или новое проявление свободы? Новость нынешнего электорального сезона в Болгарии — ненависть как профессия: некоторым активным пользователям Сети платят за распространение критики, выражений ненависти и бешеных нападок на ту или иную политическую фигуру.
Оснащенные. «Я хотел быть активным, я подключился к интернету и теперь все могу». В этой фразе отражается способность интернета повышать уровень гражданского участия и побуждать к нему. Вот пример, одновременно уникальный и типичный: одна женщина, университетский профессор, решила начать борьбу с коррупцией, ректорат стал оказывать на нее сильное давление, и ей пришлось искать поддержки. Она нашла ее с помощью своего блога в интернете. Прозрачность, отсутствие цензуры, быстрое и широкое распространение информации сделали Сеть могучим союзником этой женщины. Сеть реагировала как настоящая агора, где ведутся открытые и ответственные дискуссии и где нашлись люди, способные выступить и взять гонимую под защиту. Профессор сменила место работы, но продолжает быть очень активной — как «онлайн», так и «офлайн». Этот случай[38] демонстрирует способность Сети стимулировать гражданскую активность, укреплять уверенность людей в своих силах и в том, что им многое по плечу.
В заключение еще одна триада.
1) Благодаря развитию сетевого общества этапы и сроки знаменитого «расписания» Дарендорфа оказались измененными и переставленными. Дарендорф считал, что переход к демократии от коммунизма состоит из трех стадий: шесть месяцев требуется на установление демократии, шесть лет на построение рыночной экономики и шесть десятилетий — на становление гражданского общества. Посткоммунистическое сетевое общество перетасовало все карты: медленнее всего прогрессирует электронное правительство; экономика новых технологий и информационно-коммуникационных услуг продвинулась куда дальше, чем можно было ожидать; сетевое гражданское общество развивается революционным путем благодаря фейсбуку и другим социальным сетям.
2) «Нет ничего невозможного» (Impossible is nothing) — эта формула, появившаяся в рекламе еще до появления интернета, выражает демиургический подход к реальности, характерный для нового сетевого общества и для новой политики, начавшейся в эпоху Сети. Нас здесь интересует не чрезмерность амбиций, связанных с развитием информационно-сетевых технологий, но изменение смысла и способа участия в политике при переходе от эпохи посткоммунистических преобразований к эпохе преобразований сетевых. Этот переход рассматривается мной применительно к участвующим в нем социальным акторам, к революционным настроениям, а также к типу социальной лаборатории: здесь дело идет не столько о массах, сколько о группах по интересам, не столько о страсти, сколько об игре, не столько о бунте, сколько об экспериментировании.
Вольтон задается вопросом о связи между техническим проектом и проектом политическим[39]. Политическим проектом, связанным с книгопечатанием, была Реформация, политическим проектом, связанным с радио и телевидением, — демократия масс. Какой политический проект связан с интернетом? Вопрос остается открытым.
3) Сетевой субъект уже сконструирован, в то время как сетевой гражданин представляет собой скорее предварительный набросок, нежели конкретный проект...
Перевод с французского Кирилла Великанова
Редакция ОЗ благодарит автора и издательство L'Harmattan за любезное разрешение напечатать русский перевод статьи.

* Anna Krasteva. Du citoyen postcommuniste au citoyen connects. © Rouet, G., (dir.), 2011. Citoyennet& et nationality en Europe. Articulations et pratiques. Paris: L'Harmattan, coll. Local & Global. P. 237—254.
** В переводе В. О. Горенштейна: «Вообще народу, находящемуся под царской властью, недостает многого, и прежде всего свободы, которая состоит не в том, чтобы иметь справедливого владыку, а в том, чтобы не иметь никакого». Цицерон. О государстве. Книга 2. С. 43. — Прим. ред.
*** Автор имеет в виду Волена Сидорова. См. о партии «Атака», например, здесь: http://www.right-world.net/countries/bg/ataka — Прим. ред.
[1] Хотя в качестве примеров приводятся в основном болгарские реалии, результаты нашего анализа применимы и в более широком контексте.
[2] Nonna Mayer & Anne Muxel. Introduction, in: Annick Percheron. La socialisation politique. Paris: Armand Colin. P. 7.
[3] Пионерской называлась первая по порядку коммунистическая организация, в которой состояли дети от 8 до 13 лет.
[4] Thomas Marshall. Class, citizenship and social development. New York: Anchor books, 1965.
[5] Karl Marx. La question juive. Paris: Plon, 1843.
[6] Ср.: PaulMagnette. Lacitoyennetd. Une histoire de l'idde de participation civique. Bruxelles: Bruylant, 2001.
[7] Автор этой прекрасной характеристики — Поль Маньет (PaulMagnette, op. cit.).
[8] Jerome Jaffre & Anne Muxuel. S'abstenir: hors du jeu ou dans le jeu politique, in: Pierre Brechon, Annie Laurent & Pascal Perrineau (dir.). Les cultures politiques des Francais. Paris: Presses de Science Po, 2000.
[9] Jerome Jaffre & Anne Muxuel. Op. cit. P. 20.
[10] Ср.: RonaldInglehart. La transition culturelle dans les socidtds industrielles avancdes. Paris: Economica, 1973.
[11] Jerome Jaffre & Anne Muxuel. Op. cit. P. 20.
[12] DavidRizman. La foule solitaire. Anatomie de la socie'te' moderne. Paris: Arthaud, 1992.
[13] Ср.: ZygmuntBauman. Liquidmodernity. Cambridge: Polity, 2000; GillesLipovetsky, Sdbastien Charles & Pierre-Henri Tavoillot. Les temps hypermodernes. Paris: LGF, 2006.
[14] Чуждый каким-либо идеологическим предпочтениям, он был ответственным за безопасность и бывшего коммунистического лидера Тодора Живкова, и бывшего царя Симеона.
[15] Его партия Граждане за европейское развитие Болгарии имеет только 116 из 240 мест в болгарском парламенте.
[16] Персонализированное лидерство — тенденция, намного более общая, характерная и для западных демократий: «Этот запрос на персонализированное лидерство является одним из важных факторов, объясняющих политическую мотивацию и участие граждан в политике»; см.: Gianpietro Mazzoleni. A return to civic and political engagement prompted by personalized political leadership? Political communication. Vol. 17. No. 4. 2000. P. 326.
[17] Ср.: Anna Krasteva. L'individualisme postcommuniste, in: Jean-Paul Payet & Alain Battegay (dir). La reconnaissance a l'epreuve, Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2008.
[18] Ср.: Paul Magnette. Op. cit.
[19] Ср.: RonaldInglehart. Op. cit.
[20] Anna Krasteva. Op. cit.
[21] Benjamin Constant. De la libertddes anciens comparde a celle des modernes. 1819.
[22] Zygmunt Bauman. Op. cit.
[23] Ср.: Jean Leca & Pierre Birnbaum. Sur l'individualisme : thdories et mdthodes. Paris: Presses de la FNSP, 1986, rddd. 1991.
[24] Ср.: Anna Krasteva. L'individualisme postcommuniste, in: J.-P. Payet & A. Battegay (dir). La reconnaissance a l'dpreuve, Villeneuve-d'Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2008.
[25] Theodora Vetta. Democracy building in Serbia: the NGO effect. Journal Southeastern Europe. Vol. 33. 2009.
[26] Ср.: Anna Krasteva. Being a citizen: not a profession, but a commitment. 2008. См. на сайте:ceetrust.org/csf/
[27] В противоположность французским президентским выборам, на которых Ле Пен вышел во второй тур вместо кандидата левых.
[28] Ср.: GiovanniSartori. Thebrie de la democratie. Paris: Armand Colin, 1973.
[29] Dominique Schnapper. Qu'est-ce que la citoyennete. Paris: Gallimard, 2000. P. 50.
[30] Anna Krasteva. Conflit, confiance et democratie en Europe de l'Est. Доклад на коллоквиуме: La Chine et l'internationalisation de la sociologie. Lyon et Paris, 30.06—04.07.2008.
[31] Ibidem.
[32] Paul Magnette. Op. cit. P. 236.
[33] John Stuart Mill. Consideration sur le gouvernement repre'sentatif. 1861.
[34] Dominique Wotton. Fracture nume'rique ou facture nume'rique?, in: Serge Proulx & Francis Jaureguibery. Internet, un nouvel espace citoyen. Paris: Editions l'Harmattan, 2003. P. 31—36.
[35] Ср.: Serge Proutx & Francis Jaureguibery. Op. cit.
[36] Francis Jaureguibery. Internet comme espace ine'dit de construction de soi?, in: Serge Proulx & Francis Jaureguibery. Op. cit. P. 230.
[37] Dominique Wolton. Op. cit.
[38] Раскрыт в подробном интервью, полученном в рамках исследовательского проекта по электронному гражданству, который был осуществлен под руководством автора.
[39] Dominique Wolton. Op. cit.