Журнальный клуб Интелрос » Фома » №12, 2019
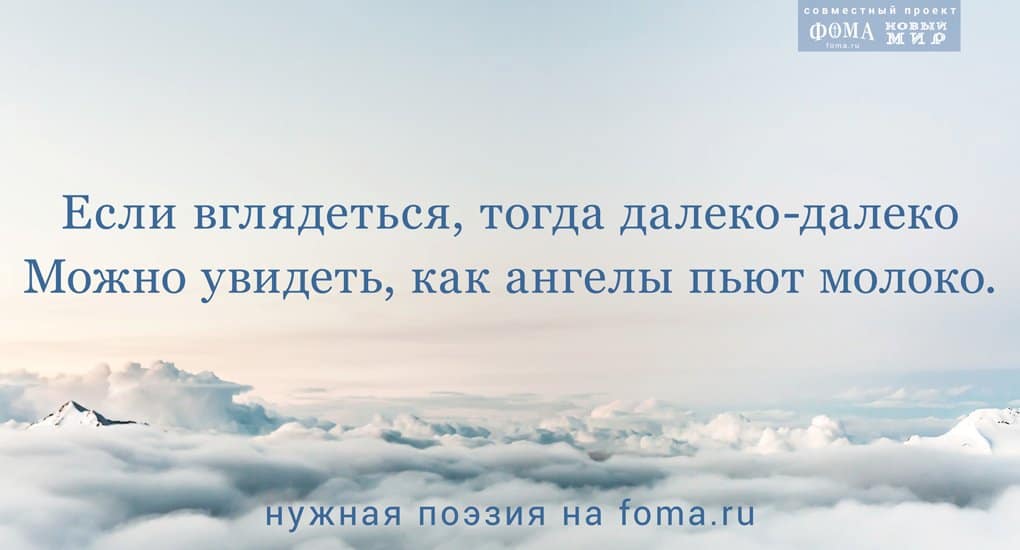
Совместный проект журналов «Фома» и «Новый мир» — рубрика «Строфы» Павла Крючкова, заместителя главного редактора и заведующего отдела поэзии «Нового мира».
Однажды в разговоре со старейшим поэтом и переводчиком Семёном Липкиным, родившимся в начале прошлого века и перешагнувшим черту, разделяющую два столетия, — равноправным собеседником лучших писателей эпохи (с Мандельштамом, Ахматовой и Гроссманом ему довелось даже дружить), — я узнал о некоей классификации тех, кто представляет собою таинственный «поэтический народ». То есть — о людях, посвятивших себя стихам.
«Поэты», «стихотворцы», «стихотворные писатели» — вот какими были эти ряды.
Липкин считал, что талант и вдохновение подчас не обходят ни вторых, ни третьих. «Просто первые — это в своём роде чудотворцы… Их мало, а мы, к сожалению, не всегда при жизни умеем понять, в каком ряду они находятся…»
Именно так, думаю, было и с Валерием Прокошиным.
Свои самые последние стихи он как будто писал уже поверх болезни, поверх жизни и поверх смерти.
Он был настоящим поэтом.
«Это было в детстве, я помню, на раз-два-три… / Так мне и надо: / Закрываешь глаза и видишь себя внутри / Райского сада. // А потом проживаешь век, словно вечный бой, / Как и все — грешный. / Собираешь камни и носишь везде с собой, / Глупо, конечно. // Смотришь в воду, где плавают рыбы туда-сюда: / Карпы, сазаны… / Закрываешь глаза и видишь внутри себя / Свет несказанный…»
Младший друг и автор ряда статей о поэзии Прокошина, поэт Андрей Коровин написал о Валерии ярко и точно: «…Местами лиричный до слез, местами — прямолинейный и грубоватый, местами — вдохновенный и метафоричный, он прошел свой путь творческого становления — от музыки поэзии Серебряного века, через нищенскую убогую советскую действительность — к свободе… Он смотрел на нас из своего провинциального Обнинска и видел куда больше, чем отражалось в его глазах».
К некогда «закрытому» городу, давшему стране первую атомную станцию (а Валерию — и многие испытания) прибавим благословенный Боровск, всегда освящавший его поэзию. Вот — как здесь, в нашей подборке.
* * *
Нынче последний день отпуска
Выдался, но не о нём.
Просто прогулки по Боровску
Мы совершали втроём.
Это могло быть причиною
Ревности, но впереди
Церковь горела лучиною –
И остывала в груди.
От безутешного дождика,
Слепо глядящего вслед,
Тихо брели три художника
На очарованный свет.
Не было лучше пристанища
В этот трагический год,
Чем у церковного кладбища
Синий, как сон, небосвод.
* * *
Ты включаешь спозаранку свой пейзаж:
Небо, речку, поле, лес — и входишь в раж,
Повторяю за тобою: «Отче Наш…»
Столько радости во всем, что я учу!
Хорошо, что ночь закончилась вничью.
Одеваюсь, выхожу, иду к ручью.
Вдоль сугробов, мимо церкви, словно вброд.
Улыбаюсь — на губах вчерашний мёд.
День шестой. Кричат вороны. Снег идёт.
Жизнь течёт, перетекает через край,
Ощущение, что где-то рядом рай,
Только ты его пока не открывай.
Пусть он будет, словно ангельская весть —
В воскресенье. А пока сейчас и здесь
Повторяю за тобою: «Даждь нам днесь…»
Лето катит последние вроде недели,
Вот и Яблочный Спас отслужили, отпели.
Август бродит в садах, а дожди — стороною,
Яблок в этом году, будто перед войною.
Но я чувствую вечную жизнь пуповиной,
Мне б дожить до шестидесяти с половиной.
Яблок вкус соблазняет до райского хруста,
Слово может быть вещим, — считал Заратустра.
В этом мире, где все хоть чуть-чуть виноваты,
Слово может менять даже судьбы и даты.
Пусть всё так же сгорают закаты рябиной,
Мне б дожить до шестидесяти с половиной.
И я в первую очередь и даже в третью
Всё пытаюсь себя оправдать перед смертью.
И хочу передать на хвосте у сороки:
Что для вечности наши ничтожные сроки.
Ночь сочится сквозь узкие щели в заборе,
Тишина и покой на российском Фаворе.
Скоро осень, и кажется: что ещё надо?
Август смотрит, как из Гефсиманского сада.
* * *
Утро: плывут облака — полусонные все,
Воздух прозрачен — настоян на детской слезе.
Если вглядеться, тогда далеко-далеко
Можно увидеть, как ангелы пьют молоко.
Птицы поют — сочиняют, конечно, с утра,
Может, поверю, что жизнь в основном из добра.
Если прислушаться, слышно: над зеленью крон
Ангелы тихо, как дети, считают ворон.
Странное время — течёт через край бытия,
Словно молочная речка из детского дня,
Чтобы отмыть от соблазнов и зренье, и слух,
Сердце, и грешную душу, и, может быть, дух.
* * *
Нынче февраль, как огонь пятипарусный,
Лик обжигает до слёз.
Плавится память в сорокоградусный
Русский мороз.
Тают названия улиц и детские
Меты. Из памяти всей
Лишь имена выплывают библейские:
Марк… Моисей.
Вымерзло всё. Поневоле от холода
Здесь заплутаешь среди
Белых развалин старинного города,
Стылой среды.
Бьется судьба, словно рыба на леске. И
Снежный шумит океан.
Лишь имена выплывают библейские:
Ной… Иоанн.
* * *
А помнишь, мы с тобой снеговика лепили —
Из снега, слов и слёз. Мы маленькими были.
Тень Спаса-на-крови сползала вбок, к реке.
Сугробы вверх росли, за облака цеплялись.
И нас никто не видел… Мы вдруг поцеловались,
И кто-то «Отче наш» запел невдалеке.
Снег падал столько зим в протянутые руки,
Что кончились давно все встречи и разлуки.
«А снеговик растаял», — я грустно говорю.
Но вот опять зима. У снега вкус ванили.
Сегодня мне с утра из Боровска звонили:
Там тоже всё в снегу, как в детстве, как в раю.