Журнальный клуб Интелрос » Фома » №5, 2017
В советское время школьникам разъясняли, что основной пафос «Мертвых душ» — это обличение крепостного права и бездушного чиновничества. Проще говоря, едкая социальная сатира. Сейчас же, как считает доктор филологических наук Владимир Воропаев, делают упор на другое: на морализаторство Гоголя (все эти «Коробочка как образ тупости», «Плюшкин как образ жадности»), на художественные особенности гоголевского текста. Но вот о том, что в «Мертвых душах» было важнее всего самому Гоголю, почти не говорят.
 — Владимир Алексеевич, чего же именно сегодня не замечают в «Мертвых душах?
— Владимир Алексеевич, чего же именно сегодня не замечают в «Мертвых душах?
— Если сейчас спросить не только у девятиклассников, но даже у учителей, то мало кто ответит, почему поэма так называется, в каком смысле эти мертвые души — мертвые. Между тем у Гоголя есть ясный, четкий ответ: и в самой поэме, и в предсмертных записях. Накануне кончины, обращаясь к соотечественникам, он убеждал: «Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом…» То есть души потому и мертвые, что живут без Бога. И этого, самого главного, школьникам чаще всего не объясняют.
— А вот вопрос, который появляется у всех школьников: почему «Мертвые души» названо поэмой? Ведь это же проза!
— Такой вопрос возникает не только у нынешних школьников — он возникал и у современников Гоголя. Слово «поэма» применительно к прозаическому произведению их сильно смущало. Говорили о том, что Гоголь назвал так свою книгу в шутку. Он же шутник, комик, ему «по статусу» положено шутить. С этим мнением категорически был не согласен Белинский. В 1842 году, в первой своей статье о «Мертвых душах» он писал: «Нет, не в шутку назвал свой роман поэмой Гоголь. И не комическую поэму он разумел под этим. И грустно думать, что этот высокий лирический пафос, эти поющие, гремящие дифирамбы блаженствующего в себе национального самосознания (то есть лирические отступления — прим. В. Воропаева) будут далеко не для всех доступны. Высокая вдохновенная поэма пойдет для большинства за преуморительную шутку».
Если рассматривать «Мертвые души» с позиций современного литературоведения, то, конечно, их можно считать романом — признаки романа там есть. Тем не менее, произведение это столь поэтическое, что определение «поэма» выглядит вполне естественным. Да, это не такая поэзия, к какой мы привыкли, не силлабо-тонический стих, где есть рифма и размер — но по образности, по концентрированности мыслей и чувств это именно что поэзия, сложно и тонко организованная. Обратите внимание, что все лирические отступления находятся строго на своих местах, ни одно из них нельзя сократить или передвинуть без ущерба для общего впечатления от текста.
Сложность еще и в том, что мы до сих пор не знаем, что такое поэма. Все попытки единого статического определения не удаются. Слишком неоднозначное явление. И пушкинский «Медный всадник» — поэма, и некрасовское «Кому на Руси жить хорошо», и «Василий Теркин» Твардовского. Кстати, Иван Тургенев утверждал, что для таких людей, как Гоголь, эстетические законы не писаны и в том, что он свои «Мертвые души» назвал поэмой, а не романом, — лежит глубокий смысл. «Мертвые души» действительно поэма — пожалуй, эпическая…
Обложку к первому изданию «Мертвых душ» Гоголь рисовал сам: домики с колодезным журавлем, бутылки с рюмками, танцующие фигурки, греческие и египетские маски, лиры, сапоги, бочки, лапти, поднос с рыбой, множество черепов в изящных завитках, а венчала всю эту причудливую картину стремительно несущаяся тройка. В названии бросалось в глаза слово «ПОЭМА», крупными белыми буквами на черном фоне. Рисунок был важен для автора, так как повторился и во втором прижизненном издании книги 1846 года.
Колодезный журавель, греческие маски, человеческие лица, несущаяся тройка — и крупным шрифтом написано слово «поэма», крупнее, чем название. Отсюда мы видим, что для Гоголя это было важно, и такое жанровое определение было связано с общим замыслом, со вторым и третьим томами, которые обещаны читателю в последней, 11-й главе первого тома.
Но вот что интересно. Белинский, в 1842 году безусловно считавший «Мертвые души» поэмой, вскоре изменил свое мнение. После выхода второго издания, в 1846 году, он написал другую статью, в которой продолжает хвалить книгу, но его тональность уже меняется. Теперь он видит в ней «важные и неважные недостатки», и к числу важных недостатков относит как раз те самые лирические отступления, которыми четыре года назад так восхищался. Теперь это уже не «гремящие, поющие дифирамбы», а «лирико-мистические выходки», которые он советует читателям пропускать. В чем же дело? А дело в том, что к этому времени у Белинского произошла полемика с Константином Аксаковым, который сравнивал Гоголя с Гомером, а «Мертвые души» с «Одиссеей». Вот такие сравнения Белинскому категорически не понравились, и чтобы не было соблазна называть «Мертвые души» «Одиссеей», он стал утверждать, что это всего лишь роман, а ни в коем случае не поэма.
— А кто был прав в этой полемике? Может, «Мертвые души» и впрямь русская «Одиссея»?
— Гоголя сравнивали с Гомером многие современники, не только Аксаков. Какая-то доля правды здесь есть. Действительно, Гоголь знал поэмы Гомера: «Илиаду» в переводе Николая Гнедича, а об «Одиссее», переводимой Жуковским (вышла в свет в 1849 году), написал статью, помещенную в книге «Выбранные места из переписки с друзьями».
Вне всякого сомнения, Гоголь ориентировался на Гомера. «Мертвые души» — это такой же эпический взгляд на мир, как и у него. Да, какие-то параллели проводить можно. Тем не менее, цели, задачи и художественные миры там совершенно разные.
Вообще, и современники, и потомки много с чем сравнивали поэму Гоголя. Например, с легкой руки князя Петра Вяземского пошло сравнение с «Божественной комедией» Данте. Мол, и там, и там трехчастная структура. У Данте — «Ад», «Чистилище» и «Рай», и у Гоголя заявлены три тома. Но более ничего общего у «Мертвых душ» с «Божественной комедией» нет. Ни по содержанию, ни по литературному методу.
— Какую задачу ставил себе Гоголь, приступая к написанию «Мертвых душ»?
— Сразу надо сказать, что «Мертвые души» — это центральное произведение Гоголя, в создании которого он видел смысл своей жизни. Он был убежден, что Господь для того и дал ему писательский дар, чтобы создать «Мертвые души». Известный мемуарист Павел Анненков говорил, что «Мертвые души» «…стали для Гоголя той подвижнической кельей, в которой он бился и страдал до тех пор, пока не вынесли его бездыханным из нее».
Как понимаете, чтобы обличить недостатки самодержавия, можно было бы обойтись и без «подвижнической кельи», и ехать молиться в Иерусалим было бы необязательно (а он, работая над вторым томом, совершил туда паломническую поездку в 1848 году, что, кстати, по тем временам было трудным и опасным путешествием). Естественно, цели и задачи были совершенно другие.
Еще только начиная работу над поэмой, Гоголь пишет Пушкину: «Начал писать “Мертвые души”. Мне хочется в этом романе показать хотя бы с одного боку всю Русь». То есть уже в самом начале он ставит грандиозную задачу. А далее замысел разрастался, и он уже пишет: «Огромно, велико мое творение, и не скоро конец ему». Изобразить всю Русь он намеревался уже не с одного боку, а целиком. Причем «изобразить» — означает не просто яркими красками показать какие-то внешние черты, а ответить на глубочайшие вопросы: в чем суть русского характера, в чем смысл существования русского народа, то есть каков Божий Промысл о русском народе, и какие язвы мешают русскому народу реализовать Божий Промысл, и как эти язвы можно залечить?
Он сам говорил, что хотел в поэме показать русскому человеку себя самого, все достоинства и все недостатки, чтобы путь ко Христу был ясен для каждого.
Сохранилось свидетельство Александра Матвеевича Бухарева, в монашестве архимандрита Феодора, человека очень сложной судьбы. Он был знаком с Гоголем, когда еще преподавал в академии Троице-Сергиевой Лавры, устраивал встречи Гоголя со своими студентами, а в 1848 году написал книгу «Три письма к Гоголю». И там есть такое примечание: «Я спросил у Гоголя, чем закончатся “Мертвые души”. Он как бы затруднился ответить на это. Но я спросил только: “Мне хочется знать, оживет ли как следует Чичиков?” И Гоголь ответил: “Да, это непременно будет” и что этому будет способствовать его встреча с царем». «А другие герои? Воскреснут ли они?» – спросил отец Феодор. Гоголь ответил с улыбкой: «Если захотят».
Но вот что важно: помимо индивидуального пути каждого человека ко Христу, индивидуальной борьбы со своими грехами речь, по мысли Гоголя, может идти и о всем народе. Не только отдельные Чичиковы, Маниловы, Собакевичи и Плюшкины могут покаяться и духовно возродиться — но это может и весь русский народ. Пути к такому возрождению Гоголь и собирался показать во втором и третьем томах «Мертвых душ».

Использовано фото Дмитрия Рыжкова
— А почему, кстати, речь именно о русском народе? Многие считают, что в героях «Мертвых душ» показаны общечеловеческие качества, безотносительно, так сказать, обстоятельств места и времени…
— Разумеется, такой подход справедлив. Действительно, не только русским людям, а и любым другим присущи те положительные и отрицательные качества, что мы находим у героев Гоголя. Тем не менее, если мы ограничимся только такой констатацией, это будет слишком поверхностный взгляд. Гоголь смотрел глубже, его интересовали не просто общечеловеческие нравственные и духовные проблемы, а то, как они проявляются в жизни именно русского народа, какую имеют специфику. В тексте это очень заметно.
Известно, что среди современников Гоголя был такой Иван Михайлович Снегирев, виднейший фольклорист, он издал в четырех томах сборник русских пословиц. Так вот, Гоголь при написании «Мертвых душ» пользовался этим изданием, из этих русских пословиц он лепил своих героев. Тот же Манилов — воплощение пословицы «ни в городе Богдан, ни в селе Селифан», Собакевич весь вырос из пословицы «Неладно скроен, да крепко сшит», в этом вся его суть. И даже эпизодические герои, вроде сапожника Максима Телятникова (всего лишь строчка в списке купленных Чичиковым у Собакевича крестьян): «Что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо».
Среди русских пословиц есть и такая: «Русский человек задним умом крепок». Обычно ее понимают в том смысле, что спохватывается он, русский человек, слишком поздно, когда ничего уже нельзя исправить. Но Гоголь, вслед за Снегиревым, понимал смысл этой пословицы иначе: что, наоборот, русский человек, совершив ошибку, может исправиться, что «задний» ум — это покаянный ум, это способность осмыслить ситуацию в глобальном масштабе, а не исходя из сиюминутных настроений.
И в таком толковании этой пословицы — ключ для понимания идеи «Мертвых душ». Гоголь с этим свойством русского ума связывал будущее величие и мессианскую роль России в мире. Он исходил из того, что русский национальный характер еще только формируется, еще не закоснел — и потому имеет шанс, ужаснувшись своим грехам, покаяться, измениться.
— Когда «Мертвые души» рассматривают с православных позиций, то часто делают упор на том, как мастерски Гоголь анатомирует человеческие грехи. Действительно ли это главное?
— Это действительно крайне важно. Ведь общечеловеческие грехи, показанные в «Мертвых душах», очень узнаваемы. И это поняли даже первые читатели «Мертвых душ», причем не только единомышленники Гоголя, но и такие люди, как Белинский и Герцен. Они утверждали, что черты героев Гоголя есть в каждом из нас. Гоголь, кстати, утверждал, что его герои «списаны с людей совсем не мелких». Есть версия, что прообразом Собакевича стал Погодин, прообразом Манилова — Жуковский, Коробочки — Языков, а Плюшкина — не кто иной, как Пушкин! Версия оригинальная, может быть, спорная, но небезосновательная.
Тем не менее, нельзя сводить весь духовный смысл «Мертвых душ» к изображению грехов. Да, это основа, но, говоря медицинским языком, это только анамнез, то есть описание симптомов болезни. А после анамнеза следует диагноз. Диагноз же, который поставил своим героям Гоголь, таков: безбожие. Именно безбожие превращает их личностные черты — порой сами по себе вполне нейтральные — в нечто чудовищное. Собакевич плох не тем, что груб и недалек, а тем, что смотрит на жизнь абсолютно материалистически, для него не существует ничего такого, что нельзя потрогать и съесть. Манилов плох не тем, что обладает развитым воображением, а тем, что без веры в Бога работа его воображения оказывается абсолютно бесплодной. Плюшкин плох не тем, что бережлив, а тем, что ни на минуту не задумывается о Боге и о заповедях Божиих, и потому его бережливость превращается в безумие.
Но мало поставить диагноз — нужно еще и назначить лечение. Понятна его общая схема — обратиться ко Христу. Но как, как это сделать героям, в их конкретных обстоятельствах? Вот это-то самое сложное, и на это в тексте Гоголя есть только намеки. У нас, увы, нет второго тома — есть лишь пять уцелевших черновых глав, и совсем нет третьего. Ясно одно, Чичиков задуман как герой, которому предстоит нравственное перерождение. Мы можем делать лишь догадки, каким образом это должно было произойти. По всей видимости, Гоголь хотел провести своего героя через горнило испытаний и страданий, благодаря чему тот должен был осознать неверность своего жизненного пути. Гоголь говорил отцу Феодору (Бухареву): «Первым вздохом Чичикова к истинной, прочной жизни должна была закончиться поэма».
— Как Вам кажется, насколько вообще реально было осуществить такой замысел? По плечу ли была не только Гоголю, но вообще кому-либо подобная задача?
— Замысел Гоголя — показать и отдельному человеку, и всему русскому народу путь ко Христу — был столь же великим, сколь и несбыточным. Потому что задача эта выходит за рамки художественного творчества, за рамки литературы. Кроме того, Гоголь очень ясно осознавал, что для решения этой задачи недостаточно одного лишь художественного таланта. Чтобы показывать людям путь ко Христу, нужно самому идти этим путем, и даже не просто идти, а достичь высот духовной жизни. Гоголь же был очень строг и критичен к себе, не считал себя праведником и подвижником, и потому постоянно сомневался, способен ли он, находясь на нижних, как ему казалось, ступенях духовного развития, создавать героев, чей уровень гораздо выше. Эти сомнения сильно тормозили его работу над вторым томом. Хотя, не будь этих сомнений, Гоголь не был бы самим собой. Они неотделимы от его гениальности.
Но в последние годы жизни Гоголь написал все же книгу, где высказал все свои мысли о пути спасения. Это не сюжетная проза, но это художественная книга — по своему построению, по языку, по поэтике. Я имею в виду «Размышления о Божественной Литургии». Писатель русского зарубежья Борис Зайцев писал, что в этой своей книге Гоголь «как музыкант в конце своей жизни перешел от сочинения светских произведений к сочинению произведений духовных». Книга эта обращена к молодежи, к людям, почти ничего не знающим о православной вере. Гоголь хотел продавать ее без указания авторства, по самой минимальной цене. И это действительно одно из лучших сочинений русской духовной прозы. К сожалению, малоизвестное массовому читателю. В советское время причина была очевидна, в постсоветское — «Размышления о Божественной Литургии» неоднократно издавались, но все-таки как-то затерялись на фоне огромного потока литературы. Не только светский, но и не всякий церковный читатель знает о ее существовании.
— Известно, что Гоголь сжег рукопись второго тома «Мертвых душ». Зачем он это сделал? И что именно он сжег? Что об этом думают современные исследователи?
— Сразу скажу: никакой единой позиции ученых по этому вопросу не существует. С середины XIX века и по сей день ведутся споры, выдвигаются разные гипотезы. Но, прежде чем говорить о гипотезах, давайте посмотрим на факты, на то, что твердо установлено и сомнений не вызывает.
Во-первых, мы говорим именно о втором сожжении второго тома, случившемся в феврале 1852 года. А было и первое сожжение, в 1845 году. О причинах его сам Гоголь писал в письме, которое позже включил в книгу «Выбранные места из переписки с друзьями»: «Появление второго тома в том виде, в каком он был, произвело бы, скорее, вред, нежели пользу. <…> Бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколенье к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бывает время, когда даже вовсе не стоит говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого».
Что именно было тогда сожжено? Известно, что когда в январе 1851 года Гоголя спросили, скоро ли выйдет окончание «Мертвых душ», он ответил: «Я думаю, через год». Его собеседница удивилась: разве рукопись не была сожжена в 1845? «Ведь это только начало было!» — ответил Гоголь.
Во-вторых, совершенно точно известно (по свидетельству Семена, слуги Гоголя), что в ночь с 11 на 12 февраля 1852 года Гоголь сжег часть своих бумаг.
В-третьих, до нас дошли черновики пяти глав из второго тома «Мертвых душ» — четыре первые главы и глава, которая, судя по всему, должна была стать одной из последних.
Это факты. А все остальное — это версии, основанные на устных и письменных свидетельствах близких к Гоголю людей, на логических предположениях, догадках.
— Какие же существуют версии?
— Во-первых, что Гоголь сжег готовый, набело переписанный текст второго тома. Причину этого видят либо в том, что Гоголь был той ночью в состоянии аффекта и не отдавал себе отчета в своих действиях, либо — была в советское время и такая экзотическая версия! — что он сжег второй том, испугавшись преследования жандармов, ибо, под влиянием знаменитого письма Белинского, пересмотрел свои реакционные взгляды и написал нечто прогрессивно-революционное.
Версии эти, на мой взгляд, не выдерживает никакой критики. Начнем с того, что если бы беловик второго тома действительно существовал, то именно этот беловик Гоголь и показал бы своему духовнику протоиерею Матфею Константиновскому. Между тем отец Матфей, отвечая после смерти Гоголя на настойчивые расспросы, неизменно подчеркивал, что получил на прочтение несколько тетрадей с набросками. Крайне сомнительна и версия аффекта: по свидетельству его слуги Семена, Гоголь вытаскивал из портфеля бумаги и отбирал, что сжечь, а что оставить. Когда видел, что они плохо горят в печи, то ворошил их кочергой. Вряд ли это сочетается с состоянием аффекта. Ну а уж насчет страха перед жандармами за революционное содержание — это просто смешно. Гоголь множеству людей читал вслух главы из второго тома, эти люди оставили свои воспоминания, и ни о какой перемене гоголевских взглядов никто и словом не заикнулся.
Вторая версия — беловика не было, но все запланированные главы были написаны, и именно этот черновой полный вариант Гоголь и сжег. Версия имеет право на существование, но тут возникает вопрос: как же так получилось, что Гоголь никому не читал эти недостающие главы? Известно по воспоминаниям современников, что всего он читал разным людям семь глав. Из которых до нас дошло пять, да и то в неоконченном виде. Зная характер Гоголя, зная, как важен был ему читательский отклик, странно предположить, что часть уже написанных глав он скрывал от всех своих друзей, в том числе и от духовника.
И, наконец, третья версия, представляющаяся мне наиболее достоверной: никакого полного варианта второго тома, ни чернового, ни тем более белового вообще не было. Гоголь сжег те главы, которые читал близким людям, но которыми остался неудовлетворен. Также он, вероятно, сжег какие-то наброски, какие-то письма — словом, всё, что категорически не хотел оставлять потомкам. Между прочим, свое не отправленное письмо Белинскому он, хоть и разорвал, но не сжег. А те дошедшие до нас пять глав — они именно из того портфеля, откуда Гоголь в ночь на 12 февраля вынимал бумаги, предназначенные к сожжению. Как видите, эти главы он не посчитал нужным сжигать.
Кстати, уже само по себе наличие оставшихся глав косвенно говорит о том, что никакого беловика не было. Потому что если бы Гоголь — неважно даже, из каких соображений! — решил полностью уничтожить свой 17-летний труд, то сжег бы всё. И беловик, и все черновики. Но большая часть черновиков осталась!
— В 2009 году пресса писала о сенсационной находке: якобы американский миллионер российского происхождения Тимур Абдуллаев приобрел на аукционе рукопись, которая представляет собой полную версию второго тома «Мертвых душ». Потом ажиотаж схлынул. Что там на самом деле было? Фальшивка?
— Нет, это не фальшивка, однако вовсе не полный текст второго тома, а переписанные разными почерками пять сохранившихся глав. Эти главы впервые были опубликованы в 1855 году, но еще раньше друг и душеприказчик Гоголя Степан Петрович Шевырев, занимавшийся разбором его рукописей, позволял почитателям Гоголя снимать копии с еще не обнародованных сочинений, оставшихся после его смерти. Так возникли многочисленные списки уцелевших глав второго тома. Характерно, что все эти списки хоть немножко, да отличаются друг от друга, потому что переписчики допускали ошибки, а порой и намеренно делали какие-то правки.
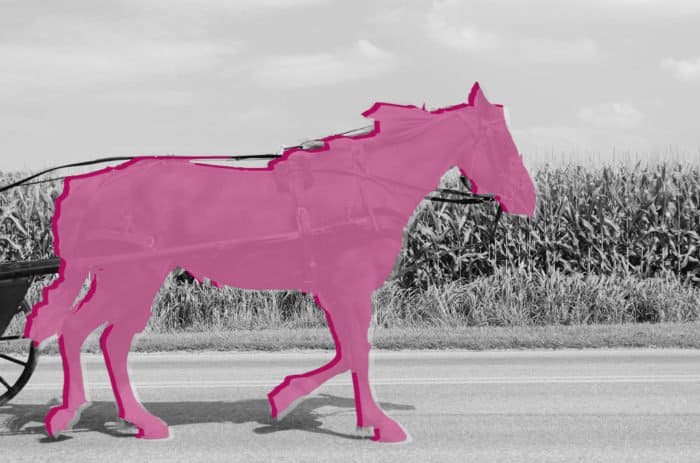
Использовано фото zac evans photography
— Можно ли на основании сохранившихся глав второго тома и различных свидетельств современников реконструировать содержание и посыл второго тома «Мертвых душ»?
— Традиционно считается, будто Гоголь сжег главы второго тома оттого, что был не удовлетворен их художественным качеством. На мой взгляд, это мнение ошибочно. Во-первых, нельзя об уровне текста судить по черновикам. Мы же Пушкина, к примеру, не по черновикам оцениваем. Во-вторых, многие, кому Гоголь читал главы второго тома «Мертвых душ», отмечали очень высокий художественный уровень. Скажем, Сергей Аксаков был поражен услышанным, он говорил: «Я понял, что Гоголь справился с той громадной задачей, которую он перед собой поставил». Если мало свидетельства Аксакова — вот свидетельство, так сказать, из другого лагеря. Николай Гаврилович Чернышевский, прочитав в 1855 году опубликованные главы второго тома, говорил, что речь генерал-губернатора в пятой главе — это лучшее из всего, что написал Гоголь. Так что с литературным качеством там все было в порядке.
Но, замечу, что если первый том — это поэма (о чем мы уже говорили), то второй (по крайней мере, в черновом варианте) ближе к классическому русскому роману второй половины XIX века, и герои его — по сути, прообразы более поздних героев русской литературы. Например, Костанжогло, этот положительный рационалист — будущий Штольц, Тентетников — будущий Обломов.
Когда Гоголя спрашивали, чем герои второго тома будут отличаться от героев первого, он отвечал — они будут значительнее. То есть глубже в плане психологическом. Все-таки герои первого тома немножко схематичны, иллюстративны, а здесь Гоголь от иллюстративности отходит.
Например, когда Чичиков сидит в тюрьме и к нему приходит откупщик Муразов, влиятельный, могущественный в губернском масштабе человек, Чичиков бросается к нему с мольбой о помощи: спасите, все забрали у меня, и шкатулочку, и деньги, и документы! А Муразов ему говорит: «Эх, Павел Иванович, Павел Иванович, как вас имущество закабалило! Подумайте о душе!» И Чичиков отвечает гениально: «Подумаю и о душе, но спасите!» То есть он уже вроде готов измениться, готов покаяться — но все-таки остается самим собой. Примерно о том же тонком духовном моменте писал в своей «Исповеди» блаженный Августин: о том, как в юности молил Господа спасти его… но не сегодня, а завтра (то есть чтобы еще немножечко погрешить).
— А что известно о замысле третьего тома?
— О нем у Гоголя есть упоминание в «Выбранных местах из переписки с друзьями», где он пишет: «О, что скажет мой Плюшкин, если доберусь до третьего тома!» По некоторым реконструкциям, Плюшкин, самый последний в галерее помещиков, у которого душа уже практически полностью омертвела, должен был духовно возродиться и отправиться в странствия, собирать деньги на храм, и дойти до Сибири, где встретиться с Чичиковым. А Чичиков оказался бы в Сибири по делу, связанному с политическим заговором (тут, конечно, аллюзия на дело петрашевцев в 1849 году). То есть речь о том, что любой человек имеет реальный шанс покаяться, пока жив. Надо только захотеть.
Между прочим, есть в бумагах Гоголя набросок, который чаще всего относят ко второму тому, но мне и моему ученику, а ныне коллеге, доктору филологических наук Игорю Виноградову кажется, что это набросок к окончанию третьего тома. «Зачем же ты не вспомнил обо Мне, что Я у тебя есть? Что у тебя не только земной помещик, но есть и небесный Помещик!» То есть это слова Бога, и тут мы имеем дело с традиционным риторическим приемом христианской словесности — когда священник на проповеди или духовный писатель в своих сочинениях говорит от лица Бога.
— Как восприняли современники Гоголя первый том «Мертвых душ»? Была ли критика?
— Вообще полемика вокруг «Мертвых душ» была бурная, спорили и о художественном методе (например, считать ли поэму русской «Одиссеей»), и о смысле. Были люди, которые обвинили Гоголя в очернительстве русской жизни. Например, писатель и журналист Николай Полевой (1796–1846), издатель журналов «Московский телеграф» и «Русский вестник». Также упрекал Гоголя в карикатурном изображении России писатель и редактор Осип Сенковский (1800–1858), основатель первого массового толстого литературного журнала «Библиотека для чтения». У Сенковского, кстати, были и эстетические претензии к языку поэмы, простонародные выражения представлялись ему чем-то грязным, сальным, «не для дам».
То есть люди это были, скажем так, не маргинальные. Они считали, что Гоголь поступил не патриотично, что истинный патриот не должен выносить на всеобщее обозрение язвы своей страны.
Гоголь же по поводу негодующих патриотов язвительно замечал, что «сидят все по углам, а как выйдет книга, где показываются недостатки наши, они выбегают из углов». А еще он писал: «Вовсе не губерния и не несколько уродливых помещиков, и не то, что им приписывается, есть предмет “Мертвых душ”. Это пока еще тайна, которая должна раскрыться в последующих томах. Повторяю вам, что это тайна, и ключ от нее в душе одного только автора».
— В чем для нас, людей XXI века, может быть урок «Мертвых душ»? Не устарели ли они в контексте современной жизни, современных проблем?
— Как может устареть книга, говорящая об устройстве человеческой души? В 11-й главе первого тома автор обращается к читателям: «А кто из вас, полный христианского смирения, не устремит на себя взгляд и не скажет: нет ли во мне частички Чичикова?» Чем мы в этом отношении отличаемся от первых читателей «Мертвых душ»? Нам свойственны те же самые грехи, слабости, страсти, что и их героям. И возможность духовного возрождения нам точно так же открыта, как и им. И призыв Гоголя в предсмертной записке: «Будьте не мертвыми, но живыми душами» адресован и людям 1852 года, и людям 2017-го, и людям 2817-го.
И это можно сказать не только о людях. Так ли уж сильно изменился за без малого двести лет характер нашего народа, его менталитет? Разве не видим мы в жизни героев «Мертвых душ» примет нашей сегодняшней жизни? Разве не стоит перед нами та же задача, которую ставил себе Гоголь: понять назначение России в мире, то есть Промысл Божий о ней, и понять, что сделать, чтобы этому Промыслу соответствовать?
Тургенев писал после смерти Гоголя Полине Виардо: «Для нас он был не просто писатель. Он открыл нам нас самих». И это верно для любого времени. В каком бы году читатель ни открывал книги, подобные «Мертвым душам», они становятся для него зеркалом, позволяющим увидеть себя настоящего.