Журнальный клуб Интелрос » Фома » №8, 2016

Жизнь подростка — это всегда некоторая тайна для родителей. И сколь бы доверительными ни были ваши отношения, каким бы жестким ни был контроль, это ничего не меняет. Примерно после 13 лет можете быть уверены — жизнь вашего ребенка перестала быть для вас прозрачной. В ней появились территории, на которые вам теперь нет доступа.
Вломиться на эти территории без приглашения не получится. Да и желания такого у многих родителей не возникает, к слову говоря. Как-то спокойней жить с верой в то, что сказанное улыбающимся чадом «пап, да у меня все нормально, не парься» соответствует настоящему положению дел. Мир подростка — это как бы параллельная реальность, в которую ты не можешь войти, хотя она разворачивается прямо у тебя под носом. Даже увидеть ее толком ты не в состоянии. А если и увидишь, то, скорее всего, ничего там не поймешь со своей взрослой колокольни. Потому что этот мир кипуч, хаотичен и находится в стадии формирования.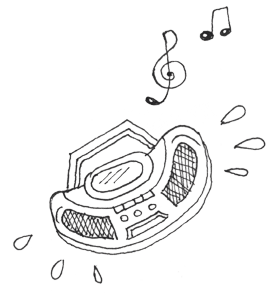
Там еще нет никаких определенностей, там бурлит расплавленная магма желаний, интересов, вопросов, попыток разобраться в себе, в окружающей жизни, в отношениях с другими людьми. И отлить эту кипящую магму в какие-то законченные формы твой ребенок сейчас может только сам. Сунешься туда со своими взрослыми рецептами слишком грубо — можешь разрушить хрупкие, едва начавшие оформляться черты индивидуальности молодого человека.
На мой родительский взгляд, тут есть лишь один конструктивный путь.
Нужно попытаться создать рядом с этой закрытой территорией подростка свое пространство для общения — новое и открытое для любых тем и вопросов. Нечто вроде запасного аэродрома, на котором твой подросший ребенок всегда сможет приземлиться, если ему вдруг понадобится твоя помощь, совет, или просто захочется уткнуться носом в плечо и молча побыть рядом. Не рваться с силой в чужой мир, а раскрыть границы своего.
Так получилось, что в свое время подростковый возраст с интервалом в год-два «накрыл» сразу троих наших мальчишек. Об этом непростом периоде в жизни нашей семьи я и хотел бы немного рассказать.
Помню, когда сыну было уже лет семнадцать, он вдруг начал рассказывать мне, как они с братом… бросили курить! И пить! Рассказ постепенно обрастал всякими пикантными подробностями. Я где надо поддакивал, где надо — смеялся или обескураженно крутил головой, типа — ну вы и даете. А сам в глубине души с ужасом думал: это каким же нужно быть идиотом, чтобы на протяжении нескольких лет жить рядом с собственными детьми и не видеть всего, о чем сейчас сын мне так увлекательно рассказывал.
 Когда он закончил, я осторожно спросил:
Когда он закончил, я осторожно спросил:
— Надеюсь, маме ты этого не говорил?
Сын обиженно поднял бровь:
— Пап, ну ты что? Ей-то зачем… Кстати, смотри, сам не скажи случайно.
— Ей незачем, да…
И совсем уже было приуныл я от своей отцовской несостоятельности, как вдруг сын выдал:
— А ты, пап, все-таки прав был, что так жестко нам запрещал дома даже пиво пить. Очень мощный оказался сдерживающий фактор, точно говорю.
Тут нужно сделать некоторое пояснение. Я много раз видел, как в семьях моих знакомых подросткам за праздничным столом взрослые наливают бокал шампанского, рюмку вина или еще чего-нибудь спиртного. Мол, все равно будут пить, так пускай уж лучше в кругу семьи формируют «культуру пития», под зорким присмотром хмелеющих родителей. Мне такая практика не нравилась категорически, я считал и продолжаю считать, что она лишь снимает очередной запрет (которых у нынешних детей и так немного) и формирует у детей никакую не «культуру», а зачатки алкоголизма. Поэтому, когда однажды во время семейного застолья услышал от детей реплику в стиле «А почему нам нельзя даже шампанского? У Вовчика вон папа и коньяк разрешает по чуть-чуть», ответил не по-праздничному конкретно и доходчиво. В том смысле, что, даже когда им будет по тридцать лет, я все равно не позволю им пить в моем доме. А ежели узнаю, что Вовчиков папа наливал им что-нибудь крепче лимонада, то буду иметь с ним очень серьезный разговор.
Знаю, что кому-то такая родительская позиция покажется слишком жесткой, но до сих пор уверен в ее правильности. И вот во время откровенной беседы сынуля вскрыл мне изнанку этого нашего домашнего сухого закона:
— Вечером с пацанами возьмем портвешка, выпьем, посидим у костра, песни попоем. Тут приходит кто-нибудь, и — опаньки: еще четыре бутылки приносит: «Никит, будешь?» А какое там «будешь», если дома — ты? Пробормочу что-нибудь, вроде: «Не, ребят, я — пас», — и уйду потихоньку. А потом часа три по улицам круги нарезаю — жду, пока хмель выветрится, чтоб домой можно было прийти. И такое не раз было, и не два. Так что, спасибо, пап. Это был реально хороший тормоз.
 Действительно, я не видел их выпившими никогда, за исключением единственного случая, когда Глебушка, младшенький наш, душа и любимчик, лет в пятнадцать напился до такого состояния, что друзья просто принесли его к дому и втихаря загрузили через окно в спальню. Мы с перепуганной женой всю ночь по очереди приходили смотреть, не стало ли ему хуже. Слава Богу, все обошлось без каких-то особенных последствий. На следующее утро я сидел на кухне и думал, как тут быть. Дело в том, что на старших ребят, когда они были маленькими, я, бывало, кричал и ругался, о чем до сих пор очень жалею. Но лучше поумнеть поздно, чем никогда. Когда родился Глеб, я ни разу не повысил на него голоса. Он вообще был у нас какой-то особенный, похожий одновременно на принца из сказки и на взъерошенного цыпленка. И вот теперь этот «цыпленок» досыпал у себя на кровати последние часы тяжелого алкогольного сна. А я сидел за столом и не знал, что и как говорить ему, когда он проснется. Наконец, решение было принято.
Действительно, я не видел их выпившими никогда, за исключением единственного случая, когда Глебушка, младшенький наш, душа и любимчик, лет в пятнадцать напился до такого состояния, что друзья просто принесли его к дому и втихаря загрузили через окно в спальню. Мы с перепуганной женой всю ночь по очереди приходили смотреть, не стало ли ему хуже. Слава Богу, все обошлось без каких-то особенных последствий. На следующее утро я сидел на кухне и думал, как тут быть. Дело в том, что на старших ребят, когда они были маленькими, я, бывало, кричал и ругался, о чем до сих пор очень жалею. Но лучше поумнеть поздно, чем никогда. Когда родился Глеб, я ни разу не повысил на него голоса. Он вообще был у нас какой-то особенный, похожий одновременно на принца из сказки и на взъерошенного цыпленка. И вот теперь этот «цыпленок» досыпал у себя на кровати последние часы тяжелого алкогольного сна. А я сидел за столом и не знал, что и как говорить ему, когда он проснется. Наконец, решение было принято.
Я предупредил жену, что это будет всего лишь грозное шоу с воспитательными целями, что я не собираюсь лютовать всерьез и устраивать бой быков. Просто с похмелья человек становится куда более восприимчив к некоторым вещам. И мне очень хотелось, чтобы мой любимый Глебушка навсегда связал у себя в подкорке эти два понятия — алкогольное опьянение и невиданный ранее отцовский гнев. Поэтому о том, что творилось на кухне, когда туда наконец приковылял проспавшийся Глеб, мне даже самому сейчас вспоминать страшно. Я орал на него так, что дребезжали окна, и любую попытку его протестного вяканья пресекал ударами кулаков по столешнице (которая после этого, кажется, треснула).
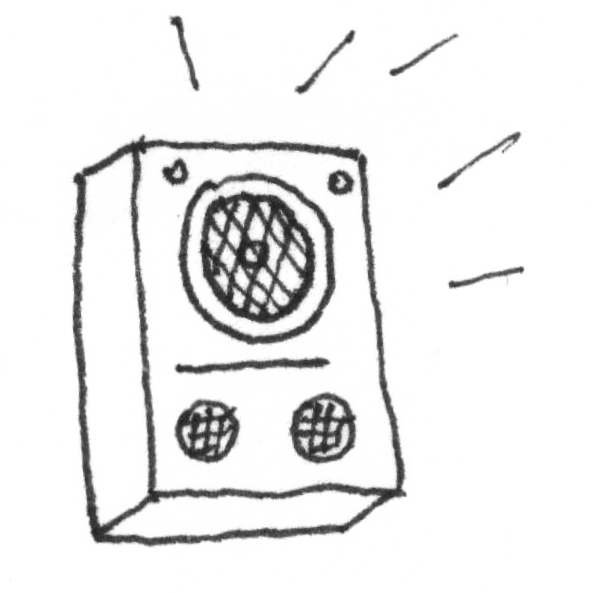
Бедная моя жена, даже зная, что все это — спектакль, несколько раз подбегала ко мне и просила успокоиться. А я вообще ни капли не сердился, правда-правда. Натурально — ломал комедию, причем, без какого-либо удовольствия, скрепя сердце. Глебушку было тогда жаль ужасно. Но экзекуцию я закончил, лишь когда счел, что впечатление он получил уже достаточное. Через полчаса мы с ним уже обнимались, жалелись, плакали и просили друг у друга прощения. Но этот единственный за всю жизнь разнос, который я ему тогда устроил, повлиял не только на него, как оказалось. Лишнюю рюмку с тех пор остерегались хватануть на гулянке все трое моих сыновей.
И еще один секрет выдал мне Никита в том нашем разговоре:
— Ты, кстати, пап, молодец, что сам тогда бухать перестал. Это очень сильно на меня повлияло, хотя и не сразу.
А я действительно в ту пору как-то вдруг милостью Божьей прекратил свою многолетнюю дружбу со спиртным. По разным причинам, ну и по педагогическим в том числе. И знать не ведал, что для моих (как оказалось — пьющих) мальчишек это станет одним из решающих аргументов.
А маме мы потом все же рассказали кое-что. Но не всё, конечно. Дело-то ведь прошлое, чего ворошить? Только расстроится зря.
Лет с тринадцати мои мальчишки люто запанковали. Со всеми делами — серьга в ухе, нарочно подранные джинсы с гирляндой булавок по шву, соответствующие выверты с прическами и т. п. Причина была по-хрестоматийному проста: подростки всегда стремятся примкнуть к какой-либо группе, отождествить себя с неким молодежным социумом. Но так получилось, что групп этих в нашем небольшом городке было всего две — местная гопота и местные же панки. Для интеллигентного взгляда различий тут, наверное, немного. Но все же у панков была хоть какая-то, пускай и смутно выраженная, идеология, некий плохо осознаваемый социальный протест, своя субкультура, музыка, кино, книги. У гопников же все радости жизни сводились к добыче денег на выпивку, к собственно выпивке, к статусному мордобою с целью уточнения личных и командных рейтингов, ну и как пик жизненного успеха — к «снять телку» после танцев в местном клубе. Панки жили все же поинтереснее. Поэтому выбор сыновей меня не очень шокировал, хотя и радости особой, прямо скажем, не доставил.
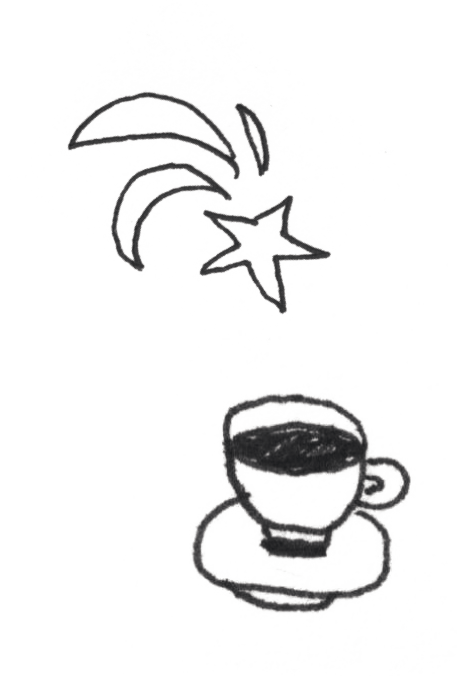 Еще один любопытный нюанс: Олег — лидер местных панков — был… алтарником в нашем храме. Вместе с моими ребятами много лет ходил в походы и летние лагеря от нашей воскресной школы. А его панкующий же младший брат Генка открыто позиционировал себя еще и как сатанист: вывешивал на своей страничке «ВКонтакте» различные пакостные изображения и высказывания, рисовал в общественных туалетах перевернутые пентаграммы, слушал антихристианский металл. В сущности, это были просто два хороших парня с тяжелой судьбой: пьющий отец, ранняя смерть матери, нищета, безнадега, озлобленность на весь этот безразличный взрослый мир, допускающий, чтобы дети в нем жили так, как довелось жить им. Бог весть, какова была бы их судьба, если бы Олег не прибился к Церкви. Конечно, оторва он был еще тот. Но батюшка его очень любил, и некоторым прихожанам, возмущавшимся столь колоритным алтарником (наколки, пирсинг, безумные прически, ультрамариновые волосы и т. д), говорил примерно так: «Ну вот, никому человек не нужен. Давайте еще и мы его от себя прогоним. И будем дальше жить спокойно и благостно».
Еще один любопытный нюанс: Олег — лидер местных панков — был… алтарником в нашем храме. Вместе с моими ребятами много лет ходил в походы и летние лагеря от нашей воскресной школы. А его панкующий же младший брат Генка открыто позиционировал себя еще и как сатанист: вывешивал на своей страничке «ВКонтакте» различные пакостные изображения и высказывания, рисовал в общественных туалетах перевернутые пентаграммы, слушал антихристианский металл. В сущности, это были просто два хороших парня с тяжелой судьбой: пьющий отец, ранняя смерть матери, нищета, безнадега, озлобленность на весь этот безразличный взрослый мир, допускающий, чтобы дети в нем жили так, как довелось жить им. Бог весть, какова была бы их судьба, если бы Олег не прибился к Церкви. Конечно, оторва он был еще тот. Но батюшка его очень любил, и некоторым прихожанам, возмущавшимся столь колоритным алтарником (наколки, пирсинг, безумные прически, ультрамариновые волосы и т. д), говорил примерно так: «Ну вот, никому человек не нужен. Давайте еще и мы его от себя прогоним. И будем дальше жить спокойно и благостно».
В общем, с моими подрастающими детьми случилось то, что принято называть «попали в плохую компанию». А что самое страшное в плохой компании? Ну конечно же, что дети «отобьются» от дома, будут пропадать неизвестно где, занимаясь неизвестно чем. И тут моя дорогая умница-жена нашла гениальный педагогический ход. Чтобы не отпускать детей из дома к панкам, она… заманила панков к нам в дом. В детстве отец не разрешал ей приводить домой друзей, от чего она очень страдала. И когда у нас появились свои дети, жена твердо настаивала на том, чтобы именно к нам приходили играть их друзья.
Так в нашем доме появились панки и сатанисты. При более близком знакомстве они оказались тихими застенчивыми ребятами. Держались они скованно, чувствовали себя явно не в своей тарелке, особенно в моем присутствии (видимо, понимали, что я к ним не очень расположен). Зато жена упорно шла с ними на контакт, весело болтала о всякой всячине, поила их чаем, с интересом слушала вместе с ними их музыку, смотрела их кино, угощала всякими шанежками или просто кормила борщом и жареной картошкой, зная, что дома у ребят еда бывает не всегда. И пацаны потихоньку оттаяли. Своей бесхитростной любовью моя жена сумела сделать наш дом местом, где им просто было хорошо. И они отвечали тем же: у нас дома никаких контркультурных выходок себе не позволяли, вели себя крайне прилично. Думаю, для них это вообще был какой-то новый уровень общения, неведомый ранее. Когда же вместе с нашими мальчишками эта лихая братва отправлялась на поиски приключений, жена отзывала Олега в сторонку и просила присматривать за ними, как старшего. Олег смущался, тер нос татуированной ладонью, и обещал, что все будет нормально. Как уж оно там было «нормально», можно только гадать. Но, думаю, такие доверительные отношения с мамой друзей не могли оставить равнодушным даже оголтелого провинциального панка.
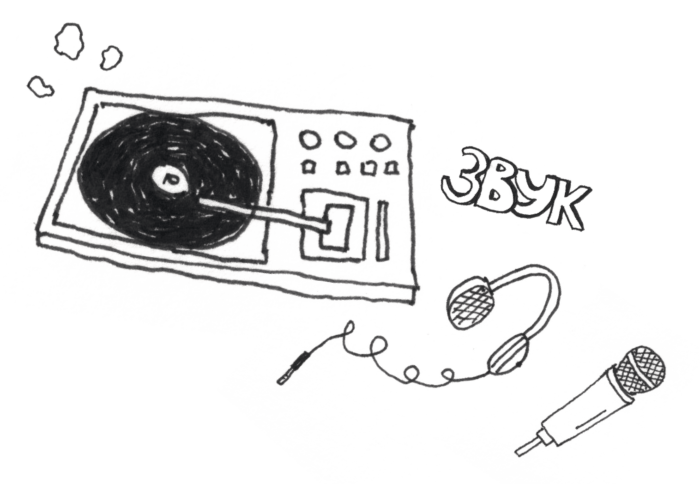
Сам я в эту их идиллию не лез, поскольку единственным желанием у меня было взять всю эту странную компанию за шиворот, спустить с крыльца и не подпускать к калитке ближе, чем на двести метров. Вместо милых гитарных песенок Сергея Никитина в доме тогда зазвучал всесокрушающий «Сектор Газа» вперемешку с «АС/DC». На заборе появились таинственные руны, начертанные краской из баллончика. Соседи стали поглядывать в нашу сторону со страхом и отвращением. Естественно, мне все это не нравилось. Но воевать с домашними панковскими посиделками я все же не стал, чему сейчас очень рад. Все закончилось через пару лет само собой, тихо и без эксцессов. Мои мальчишки стали ренегатами: из панков в одночасье переквалифицировались в фанатичных спортсменов — адептов здорового образа жизни. Панки какое-то время на них обижались, но потом привыкли и успокоились.
С тех пор прошло уже лет восемь. Олег женился на чудесной интеллигентной девушке, каждое воскресенье водит к причастию троих своих малышей. Его брат вернулся из армии спокойным собранным парнем, без всяких контркультурных и сатанистских завихрений, устроился на работу в кузнечный цех. Остальные ребята из их тусовки тоже нашли свое место в социуме, который они столь яростно отвергали в подростковом возрасте.
Вспоминая ту пору, я до сих пор благодарю Господа за две вещи: за ту чуткость, любовь и поистине духовный разум, который Он дал моей супруге в общении с этими непростыми ребятами. И еще — за то, что удержал меня от всяких решительных глупостей, которые меня так и подмывало тогда совершить. Любовь в самом деле долготерпит и не раздражается. А всякий человек, действительно, да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божией.
Еще одна из непременных подростковых фишек — музыка. И тут для меня ситуация была очень скользкая. Я ведь хотя и очень бывший, но все-таки — музыкант. Каково же было мне, с юности привыкшему к изыскам британского art rock, fusion и прочих прогрессивных стилей, слышать у себя дома композиции колхозного панка Юры Хоя в стиле: «А ты, моя ядрена вошь, за что меня так больно жрешь?» Постоянно хотелось ворваться к детям в комнату и заорать: «Вы что, с ума посходили тут все? Вы же совсем еще недавно “Арию” слушали. Музыкальную школу по классу фортепиано худо-бедно, но закончили. Как же теперь вы можете восхищаться этим трехаккордовым бредом?»
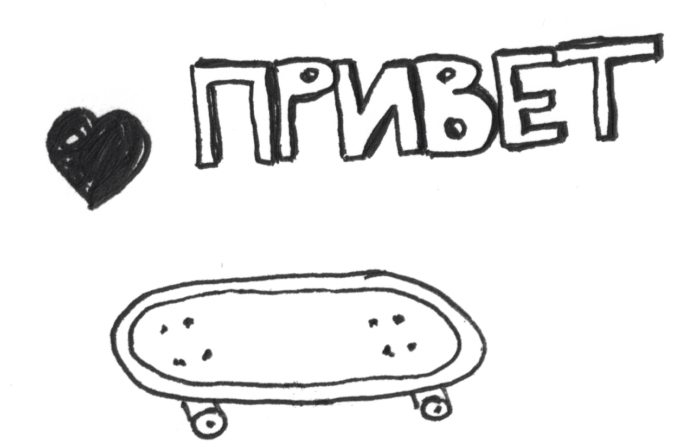 Но эмоции эмоциями, а умом я понимал, что для них сейчас это — статусная музыка, своего рода тест на принадлежность к тусовке. Ну да, такой вот тупой у их друзей музыкальный вкус (а откуда там взяться другому, ежели разобраться?) И они честно стараются понять и полюбить то, что любят их товарищи. Да, регресс, кто бы спорил. Но что я тут могу поделать? Обругать эту, с позволения сказать, музыку? Запретить ее слушать у нас в доме? Так они просто плюнут и уйдут слушать ее в другое место. Приходилось терпеть. И не просто терпеть, а еще и активно участвовать. Детям же поделиться хотелось с папой своими музыкальными увлечениями, приобщить, так сказать, к своим ценностям. И я скрепя сердце шел к ним, с умным лицом слушал Юру Хоя, одобрительно кивал в тех местах, где это дело хоть немножко было похоже на музыку.
Но эмоции эмоциями, а умом я понимал, что для них сейчас это — статусная музыка, своего рода тест на принадлежность к тусовке. Ну да, такой вот тупой у их друзей музыкальный вкус (а откуда там взяться другому, ежели разобраться?) И они честно стараются понять и полюбить то, что любят их товарищи. Да, регресс, кто бы спорил. Но что я тут могу поделать? Обругать эту, с позволения сказать, музыку? Запретить ее слушать у нас в доме? Так они просто плюнут и уйдут слушать ее в другое место. Приходилось терпеть. И не просто терпеть, а еще и активно участвовать. Детям же поделиться хотелось с папой своими музыкальными увлечениями, приобщить, так сказать, к своим ценностям. И я скрепя сердце шел к ним, с умным лицом слушал Юру Хоя, одобрительно кивал в тех местах, где это дело хоть немножко было похоже на музыку.
Я указывал, на каком альбоме у «Сектора Газа» заиграл профессиональный гитарист, обращал их внимание на появление «живых» басиста и барабанщика вместо секвенсора. В общем, исподволь учил их слушать музыку и потихонечку разбираться в том, как она устроена изнутри. Пускай, на таком сомнительном материале, как «Сектор Газа» и «Sex Pistols». Главное ведь было совсем не это. Главное, что мы с моими мальчишками теперь занимались этим вместе. И они с удивлением видели, что с папой слушать Юру Хоя оказалось куда интересней. Я воспользовался этим и как опытный идеологический диверсант начал подсовывать им музыку с таким же «грязным» саундом, но более содержательную — ранние пластинки «The Policе», совсем молодого Владимира Кузьмина, первый альбом питерского «Пикника», еще что-то, сейчас уже не упомню. И, в конце концов, таки сумел «испортить» их панковский музыкальный вкус: «Сектор Газа» они могли теперь слушать лишь из вежливости, чтобы не обижать друзей.
Далее началась следующая фаза: научившись слушать музыку, ребята захотели ее играть. И тут я окончательно подорвал авторитет всех их местных кумиров. Потому что вместо практиковавшегося в их среде бряканья по струнам на «блатных» аккордах, мог быстро научить простому, но вполне грамотному аккомпанементу к любой понравившейся им песне. Надо ли говорить, что в подростковом возрасте человек, хорошо играющий на гитаре, взлетает среди сверстников сразу на 88 level по личному рейтингу…
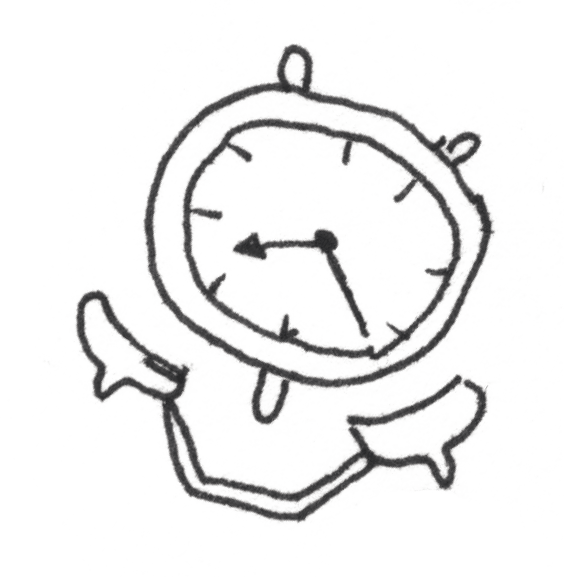 Ну а когда пришла пора более серьезных музыкальных увлечений, Никита однажды робко спросил, могу ли я купить ему хотя бы самую простенькую электрогитару. В ближайшую же поездку в Москву я отправился в музыкальный магазин и… понял, что попал. Гитары висели шпалерами в несколько рядов. Почти все названия бюджетных инструментов были мне незнакомы, да и немудрено: со времен моих музыкантских увлечений прошло почти четверть века. Я растерянно осматривал все это великолепие и мысленно ругал себя последними словами: сколько у меня друзей гитаристов-профессионалов, а покупать гитару для сына я умудрился прийти в гордом одиночестве. И тут Господь сотворил маленькое, но самое настоящее чудо. У себя за спиной я услышал знакомый голос возле прилавка: «Ребят, вы примочки гитарные на комиссию берете?» В центре Москвы, именно сейчас, именно в этом магазине вдруг оказался наш калужский гитарист Андрюха Иванов (к слову сказать, один из кумиров Никиты). Увидев меня, он вроде бы даже и не удивился особо. А когда я ему объяснил свою проблему, он понимающе кивнул, и минут сорок тестировал разные гитары, пока не выбрал ту, что показалась ему наиболее подходящей.
Ну а когда пришла пора более серьезных музыкальных увлечений, Никита однажды робко спросил, могу ли я купить ему хотя бы самую простенькую электрогитару. В ближайшую же поездку в Москву я отправился в музыкальный магазин и… понял, что попал. Гитары висели шпалерами в несколько рядов. Почти все названия бюджетных инструментов были мне незнакомы, да и немудрено: со времен моих музыкантских увлечений прошло почти четверть века. Я растерянно осматривал все это великолепие и мысленно ругал себя последними словами: сколько у меня друзей гитаристов-профессионалов, а покупать гитару для сына я умудрился прийти в гордом одиночестве. И тут Господь сотворил маленькое, но самое настоящее чудо. У себя за спиной я услышал знакомый голос возле прилавка: «Ребят, вы примочки гитарные на комиссию берете?» В центре Москвы, именно сейчас, именно в этом магазине вдруг оказался наш калужский гитарист Андрюха Иванов (к слову сказать, один из кумиров Никиты). Увидев меня, он вроде бы даже и не удивился особо. А когда я ему объяснил свою проблему, он понимающе кивнул, и минут сорок тестировал разные гитары, пока не выбрал ту, что показалась ему наиболее подходящей.
Так Никита стал обладателем вполне приличного корейского инструмента и не менее приличного комбика с усилителем. Мы стали осваивать блюзовую технику. Учеником он оказался способным и буквально через пару недель уже довольно уверенно выводил простенькие хрестоматийные соло из репертуара Deep Purple. Ничего подобного никто из местных музыкантов играть не умел. Так, шаг за шагом, мы сближались с моими улетевшими в контркультуру мальчишками через общее увлечение гитарой и музыкой. Старшему, Антону, я показывал аккорды его любимых песен. С Никитой мы всерьез занялись рок-н-роллом. А Глебушка в какой-то момент вдруг влюбился в песни Евгения Маргулиса, и мы подолгу кропотливо учились его хитрой блюзовой манере.
Сейчас все трое играют на гитаре значительно лучше меня. Слушают интересную умную музыку, что-то сами сочиняют. Об их увлечении «Сектором Газа» я тактично не напоминаю. Хотя именно с него когда-то и начиналась наша с ними музыкальная история. Видимо, не только стихи, не ведая стыда, растут незнамо из какого сора.
В ныне уже многими подзабытом фильме Динары Асановой «Пацаны» главный герой — воспитатель летнего лагеря для трудных подростков — говорит: «У каждого пацана обязательно должен быть мужик, которому он мог бы сказать — “ты”».
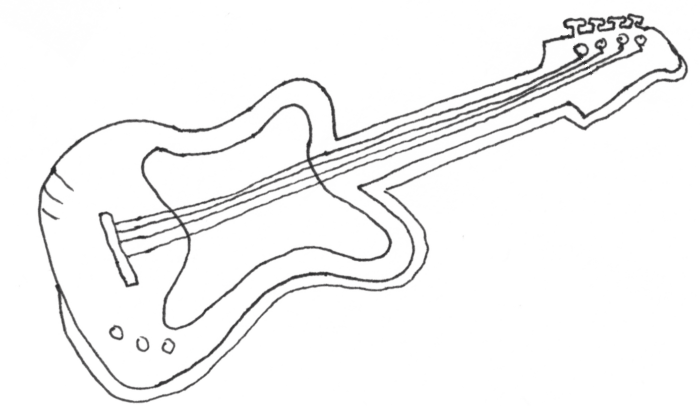 За этими словами стоит куда больше, чем обычное панибратство в речи. Подросток остро нуждается в общении со взрослыми людьми. Но только в настоящем общении — предельно открытом, честном, без нотаций и омертвелых педагогических штампов. Вот это и есть общение на «ты». И я очень рад, что для своих мальчишек сумел стать этим самым мужиком, с которым можно на «ты» и — обо всем на свете.
За этими словами стоит куда больше, чем обычное панибратство в речи. Подросток остро нуждается в общении со взрослыми людьми. Но только в настоящем общении — предельно открытом, честном, без нотаций и омертвелых педагогических штампов. Вот это и есть общение на «ты». И я очень рад, что для своих мальчишек сумел стать этим самым мужиком, с которым можно на «ты» и — обо всем на свете.
Сколько же мы с ними провели ночей в таких разговорах на кухне! Часами сидели и никак не могли разойтись, настолько важными и интересными были для нас эти ночные посиделки. Мы говорили о фильмах и музыке, о рукопашном бое и оружии, о том, почему Бог допускает в мир таких людей, как братья Голубевы (главные их школьные враги), и о том, что такое красота. Для себя я вынес из этих разговоров центральную мысль: подросткам очень важно понять, как жить правильно, как ставить перед собой цели, как их достигать и идти к новым вершинам. Подростки по натуре — бойцы и реформаторы. Они уже видят различные неправды взрослого мира, не согласны с ними и твердо намерены жить иначе, лучше, правильнее. Но как это сделать, они еще не знают. Хотя очень хотели бы узнать. Причем не в теории. На правильные слова у них выработался иммунитет еще с первых классов школы. Тут важен живой пример. Подросткам необходимы люди, делом доказавшие свою правду, люди, с которых можно было бы делать и свою жизнь, не боясь попасться на очередную демагогическую обманку.
И тут мне очень пригодился опыт работы в журнале «Фома». В этих важных беседах с собственными детьми мне не нужно было пересказывать прочитанное в чужих статьях и книжках. Господь так удивительно все устроил, что к тому времени со многими замечательными людьми я был знаком лично: делал интервью, вместе работал над книгами, просто пересекался случайно. И когда речь у нас заходила об их любимом музыканте — наикрутейшем гитаристе-виртуозе Алексее Белове из группы Gorky Park, я рассказывал им, как сидел в гостях у Леши и его замечательной супруги, певицы Ольги Кормухиной, как они угощали меня афонским рахат-лукумом и рассказывали о своем духовном отце — старце Николае Гурьянове. И тут уже история легендарных музыкантов уходила в тень их живого свидетельства о настоящем святом человеке.
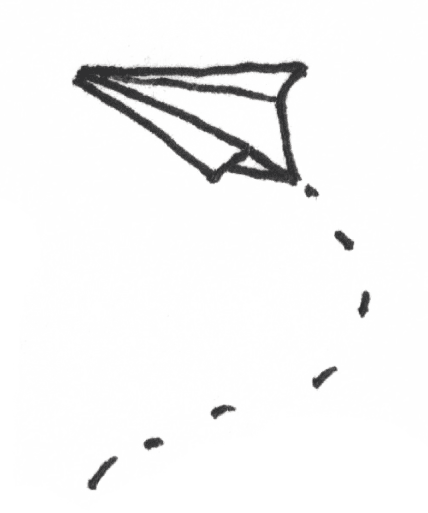
Разговаривая с ребятами о Федоре Конюхове, я вспоминал, как впервые пришел в его художественную мастерскую. На полу громоздилась куча альпинистского снаряжения: отец Федор через два дня улетал на свой второй штурм Эвереста. Пока батюшка хлопотал у стола с нехитрым угощением, я рассматривал иконы, висевшие на стене, и вдруг увидал среди них одну, где было написано славянскими буквами «Конюхов». Ну, думаю, батюшка совсем уж зазнался — себя на иконе изобразил. Сели пить чай. Слово за слово, спросил я его и об этой иконе. Оказалось, это его прадед, священномученик. Вообще же у него в роду пять канонизированных святых. А огромный крест, который он все время носит на груди, когда-то принадлежал брату его деда, священнику Николаю Конюхову. В 1918 году большевики замучили его до смерти. Сперва на морозе обливали водой, а после застрелили. Крест сорвали и расковыряли — наверное, думали, в нем какие-нибудь ценности спрятаны. Родственники его сохранили и передали отцу Федору. А в кресте этом сейчас — мощи апостола Андрея Первозванного.
Рассказываю о встречах с Алексеем Ильичем Осиповым, лекции которого моим ребятам полюбились еще со времен воскресной школы, и тут же перехожу на его детские воспоминания об игумене Никоне (Воробьеве), известном многим православным по книге «Письма игумена Никона». Оказывается, мама Алексея Ильича была духовной дочерью игумена, и будущий заслуженный профессор МДА в буквальном смысле вырос на руках у святого подвижника, был им воспитан с младенчества.
Через такие разговоры у нас с детьми происходил какой-то удивительный синтез представлений о современности и вечности. Любимые их сегодняшние герои парадоксальным образом вплетались в причудливый узор церковной жизни. Брутального бойца Андрея Кочергина мы вдруг видели гостем на телепередаче у протоиерея Дмитрия Смирнова. Легендарный каратист Сергей Бадюк оказывался звонарем храма Христа Спасителя, а экстравагантный актер Петр Мамонов — тонким и мудрым православным мыслителем.
Возможно, кому-то из воцерковленных христиан эти примеры покажутся наивными и даже сомнительными. Но я точно знаю, что именно благодаря нашим разговорам о таких людях мои мальчишки в подростковом возрасте не отвернулись от Церкви и не выбрали себе в ориентиры людей с нехристианским мировоззрением.
***
Взрослые тоже народ очень закрытый, увы. И открыться навстречу собственному подросшему ребенку, научиться слушать его и говорить с ним как равный с равным — это тоже наука, которой овладеваешь не сразу. Особенно если иметь в виду, что никакие вы еще не равные и до настоящего равенства вам предстоит долгий и непростой путь. Но все же начинается он именно здесь — в подростковом возрасте. И от того, каким окажется это начало, во многом будут зависеть ваши отношения с детьми на всю оставшуюся жизнь.
На заставке автор статьи со своими сыновьями. Фото Нины Ткаченко