Журнальный клуб Интелрос » НЛО » №158. 2019
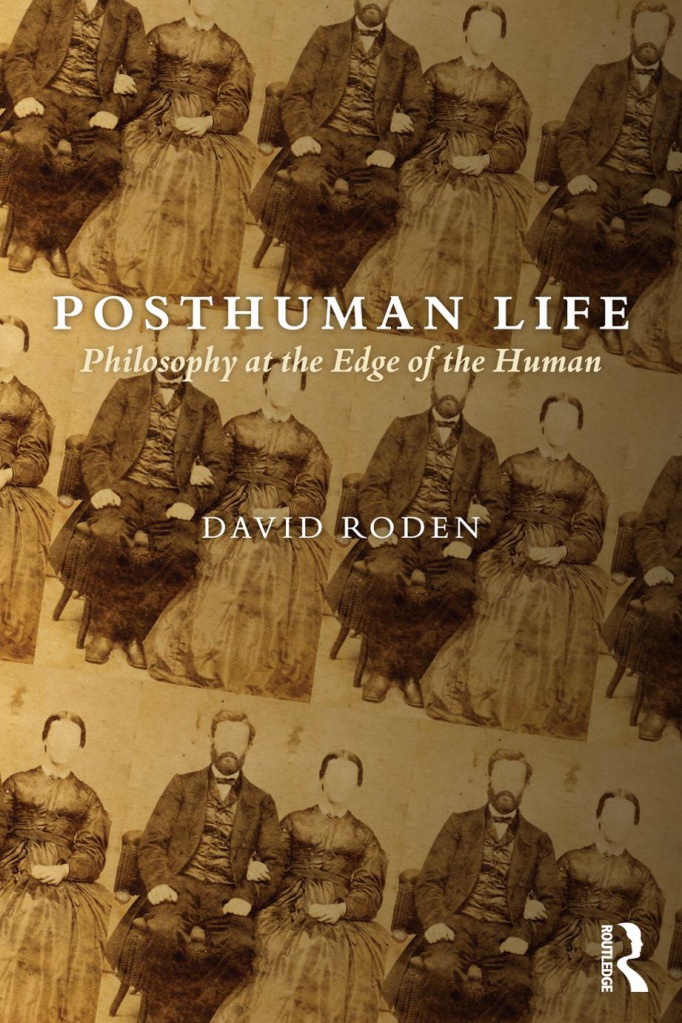
Roden D. Posthuman Life: Philosophy at the Edge of the Human.
L.; N.Y.: Routledge, 2015. — VIII, 211 p.
Книга профессора факультета искусств и социальных наук Открытого университета (Великобритания) Дэвида Родена представляет собой всесторонний анализ концепции постчеловеческой жизни и охватывает широкий спектр проблем — от онтологических и эпистемологических до этических и политических. От других проектов, определяемых их авторами как постгуманистические, работа Родена отличается вниманием к деталям и изощренной аргументацией. Введение, иронично озаглавленное «Чёрчлендова многоножка», намекает на то, что читателю предстоит иметь дело с чем-то вроде фанфика из области аналитической философии. Отсылка к основоположнику нейрофилософии Патриции Чёрчленд, по всей видимости, означает, что предпринятая представителями этой «экстремистской» ветви аналитической философии редукция фолк-психологических аспектов эпистемологии «после лингвистического поворота» к нейробиологии рассматривается Роденом как один из сценариев нейроутопии (с. 4). Рецензируемая книга пронизана такими неожиданными сопоставлениями: деконструктивизм и когнитивная наука, аналитический функционализм и теория ассамбляжей, новый материализм и утопизм.
Стремление к аргументативной стройности сближает Родена с представителями недавно возникшего направления — неорационализма, которые стремятся осмыслить разум, его статус и границы «после конечности» (т.е., в итоге, после человека), однако это справедливо лишь отчасти: Роден выводит определение человека исходя скорее из спекулятивных теорий, чем из теорий разума. Среди философских «союзников» и «попутчиков» Родена можно назвать спекулятивный реализм и современный натурализм (интерес к которому проявляется в его более ранних работах), а также критический постгуманизм Рози Брайдотти, хотя эта связь и не столь однозначна: Роден разделяет с Брайдотти критику автономии человека, однако в вопросе условий его гетерономии и выводимых из этого следствий их пути расходятся.
Книга состоит из восьми глав, которые постепенно вводят читателя в программу, названную Роденом «спекулятивный постгуманизм». Начав с предварительной разметки проблематики постгуманизма, отграниченного от гуманизма и трансгуманизма, он переходит к ключевым для него идеям: «антропологически неограниченному постгуманизму», «тезису о разрыве», субстанционалистской теории технологий и, наконец, постчеловеческой этике.
Несмотря на то что вопросы этического характера непосредственно затрагиваются лишь в заключительной главе, проблематика такого рода пронизывает всю книгу. Вводя определение спекулятивного постгуманизма, Роден отрицает нормативный характер своей теории. Главный тезис книги гласит: постлюди возможны. Ненормативный характер тезиса означает, что постлюди и люди не выстраиваются в иерархию лучшего и худшего. При этом автор методично отделяет свое определение человека от определения биологического homo sapiens. Здесь проявляется расхождение Родена с трансгуманизмом: постчеловек не является ни апофеозом, ни мессианским преодолением, ни нигилистическим отрицанием человека. Здесь же вводится общее определение постчеловека: технологически сконструированное существо, уже не являющееся человеческим. При этом, несмотря на релевантность для него темы «технологического улучшения человека», близкой оптимистам NBIC-конвергенции[1], Роден старается отмежеваться от вопроса об относительной ценности постчеловеческой жизни. Он вводит такое определение человека, которое, имплицитно инкорпорируя в себя целый спектр знаний из различных дисциплин, порывает с пониманием человека как биологического вида. Он мыслит человечество как сеть всего того, что вовлечено в человеческое существование и не может существовать автономно, или «широкое человечество» (Wide Humanity; далее — ШЧ). К нему Роден относит не только представителей homo sapiens, но и виды-компаньоны, исторически развивавшиеся вместе с людьми, а также все социальные, технологические и культурные артефакты истории человечества.
Роден спорит с теоретиками, настаивающими на человеческой исключительности[2] и определяющими человека как существо, которое обладает чем-то нередуцируемым и присущим только ему. Эти теоретики выступают в защиту феноменальности, социальности и нормативности[3], т.е. параметров, задающих «манифестный образ» мира и человека, если использовать термин важного для Родена и его коллег-неорационалистов автора — Уилфрида Селларса. В оспариваемых им представлениях задаются границы определения пост- или нечеловеческого относительно ШЧ в смысле обладания или необладания человеческими чертами. Таким образом, человеческая исключительность здесь понимается не как исключительность homo sapiens, а как совокупность свойств, которые выводятся из «манифестного образа», являясь при этом сущностными для него. С точки зрения этих теоретиков, существует проблема определения агентности гипотетических постчеловеческих агентов: какими свойствами должна обладать система, чтобы быть способной к осуществлению действия? Предположительно эти свойства — сущностные для агентности как таковой, независимо от конкретных воплощений агентов в человеческих или нечеловеческих существах.
Можно сказать, что книга Родена представляет собой попытку постановки вопроса: «Каково быть постчеловеком?» Она предполагает критическое переосмысление антропологически ограниченного концептуального аппарата, образующего наше манифестное видение мира и нас самих и не адекватного постчеловеческой агентности. Парадигмой такой деконструируемой позиции для Родена является феноменология[4]. В дискуссии с этими «манифестными» теориями он обращается к проекту нейрофилософии, заимствуя у нее отдельные аргументы. Задача Родена — достичь наиболее общих критериев различения ШЧ и их постчеловеческих потомков. Для этого он нуждается в экстраполяции выводов нейрофилософии о человеческих существах на постчеловеческих агентов. Когнитивные процессы, происходящие в системе, не обязаны производить собственные феноменальные модели, они способны успешно функционировать без них. Тем самым нейробиологический уровень, необходимый для человеческой агентности и служащий основанием для нее, воплощает принципы более общего порядка, для которого репрезентации необходимыми не являются (с. 79). Возможность автономного функционирования нейрональных ассамбляжей без их сопровождения феноменальными моделями и их символическими интерпретациями позволяет обобщить Родену эту логику, артикулировав ее в терминах «теории ассамбляжей», применимой не только к ШЧ.
Итак, нейрональные ассамбляжи являются лишь частными случаями автономных систем. Роден задается вопросом: предоставляет ли теория автономных систем такое понятие автономии, которое позволит позитивно определить потомков ШЧ как автономных агентов? До тех пор, пока они будут способны воспроизводить условия собственного существования, включая объекты среды и функциональные отношения, и приобретать новые функции, они будут оставаться автономными. Теория автономных систем заимствуется Роденом из биологии и совмещается с онтологической «теорией ассамбляжей», разработанной Жилем Делёзом и Феликсом Гваттари и развитой Мануэлем Деланда. Она является минимальным условием различения ШЧ и их постчеловеческих потомков, при этом оставаясь, на наш взгляд, недостаточно проработанной в силу гетерогенности ее источников.
Постлюди могут быть «одичавшими» представителями ШЧ, способными к самостоятельной деятельности вне его социотехнического ассамбляжа (с. 113). Однако состояние после гипотетического выхода из ШЧ трудно отличить от практики существования некоторых систем, которые способны к самовоспроизведению и которые не были частью ШЧ до определенного момента. Достаточно привести в пример диких животных, исключенных из порядков ШЧ, чтобы понять, что технобиологически возникшие «бывшие люди» оказываются в этом смысле тождественны обитателям «первозданной природы». Более того: то, что постчеловек перестает быть человеком, перестав быть частью ШЧ, еще не значит, что человек в нынешнем виде не является условием возникновения постчеловека.
Роден черпает концептуальный и эмпирический материал из нефилософских дисциплин, чтобы найти язык, который был бы соразмерен поставленной им проблематике. В результате книга производит впечатление лоскутного одеяла: автор осматривает маргинальные места философских и научных теорий, научно-фантастической и хоррор-литературы, дистиллируя из них концептуальный осадок. В ход идут теории аналитических философов сознания, ученых-нейробиологов и когнитивистов, теоретиков и энтузиастов трансгуманизма, представителей хардкорной научной фантастики киберпанка[5]. При этом на протяжении всей книги сохраняется напряжение между построением философской аргументации и опорой на ресурсы научного знания — эволюционной биологии, нейронауки, когнитивистики и искусственного интеллекта. Насколько приемлемым с философской точки зрения может быть такое колебание между философским и научным знанием? Достаточно вспомнить различие между философией, наукой и искусством, проведенное Делёзом и Гваттари, чтобы понять, что колебание между философским решением и научным фактом чревато опрокидыванием построенного таким образом рассуждения в идеологическое «заколдовывание». Эта неоднозначность касается и упомянутого выше смешения теории ассамбляжей и теории автономных систем.
Однако подобная эклектика имеет и положительную сторону. Роден подходит к подрыву философских предпосылок не через редукцию философской аргументации к научной теории, объясняющей первую как собственный эпифеномен. Говоря об обусловленности философской аргументации человеческой перспективой, он не утверждает зависимости первой от второй. В отношении философской аргументации Роден делает весьма изощренный ход: заимствуя различные теоретические позиции, которые представляют собой продукт научной редукции философских аргументов, он переводит их обратно в регистр философского дискурса. Важно, что некоторые тезисы просто не могут быть пересмотрены исходя из устоявшейся философской традиции поиска базовых принципов и оснований. Это связано с тем, что искомое определение границ постчеловеческого запрашивает соответствующий ему язык, который, как может оказаться, в корне противоречит нашим привычным интуициям. Поэтому, прежде чем произвести позитивное знание о постчеловеке, постгуманизм должен разобраться с тем, что такое человеческая перспектива, какова ее имплицитная эпистемология и каковы ее следствия для философского рассуждения.
Насколько легитимен проект Родена с эпистемологической точки зрения? Если он подчеркивает спекулятивный характер своих рассуждений, отказываясь от возможности позитивного знания о постчеловеке, то каковы основания для столь уверенного построения аргументации, пусть даже поддерживающей радикальную несоизмеримость человеческого и постчеловеческого? Как кажется, здесь уместно вспомнить уроки другого нашумевшего философского проекта прошлого десятилетия. Квентин Мейясу, стремившийся тематизировать ускользающую и никогда не исчерпываемую человеческим мышлением контингентность, указывал, что радикальная инаковость гиперхаотической природы — это и хаос, и его отсутствие; и нечто немыслимое для нас, и, наоборот, привычным образом данное в феноменологическом сознании[6].
Можно ли сказать, что спекулятивные рассуждения о постчеловеке будут скорее угадываниями, ведь они неизбежно высказываются из позиции антропоморфного разума, мыслящего самого себя как ресурс для постчеловеческого рывка? С этим затруднением Роден справляется, вводя понятие «антропологически ограниченного» постгуманизма, что, возможно, имеет косвенное отношение к стремлению исправления когнитивных искажений. Имеется в виду, что область определения человеческих высказываний о постчеловеческом неизбежно задана нашей когнитивной архитектурой и нашим знанием о тенденциях технологического развития; даже самые смелые предположения относительно того, кем мы можем быть, неразрывно связаны с тем, кем мы уже являемся и не можем не быть. Наша убежденность в том, что мы способны выйти за пределы человеческой реальности, заглянув в гиперхаотический мир природы-без-нас, есть лишь следствие убежденности в эпистемологической всесильности познающего субъекта, одним из множества воплощений которого является человеческое существо.
Роден выдвигает «тезис о разрыве»: постлюди могут быть потомками ШЧ, ставшими автономными относительно своих предков благодаря технобиологическим преобразованиям. Актуальное состояние человеческих существ и, шире, ШЧ (а именно, господствующая эпистемология и склонность определять себя посредством обладания феноменальным сознанием) не позволяет сделать однозначный прогноз относительно постлюдей исходя из наличных сведений. Ход рассуждений Родена предполагает, что всякое утверждение постчеловеческого зиждется на тезисе о континуальности перехода от ШЧ к постлюдям, а не на разрыве, поскольку постлюди определяются как потомки ШЧ (с. 47—48). При этом вводимый им тезис о разрыве подрывает возможность каких-либо позитивных утверждений о том, какими могли бы быть постчеловеческие существа: определение их как постлюдей означает, что они уже не будут поддаваться определению в рамках манифестной человеческой реальности (с. 107). Тезис о разрыве постулируется скорее с точки зрения ШЧ, а тезис о континуальности предполагается спецификой отношений между ШЧ и постлюдьми.
Для постгуманизма Родена важно выстроить позитивную концепцию постчеловека, а не апофатически указать на него. Возможностью позитивного знания о постлюдях имплицируется некоторое однозначное отношение человека и постчеловека. Но не оказывается ли постгуманизм вариантом эссенциалистской логики, против которой он сам выступает? Такой вопрос можно поставить и перед проектом «постгуманизма» в целом, а не только перед проектом Родена. Мы полагаем, что Роден не выстраивает отношения между якобы ясными терминами «человек» и «постчеловек». Это, в свою очередь, вызывает вопросы к тезису о разрыве, совместимость которого с теорией ассамбляжей кажется проблематичной. Роден оказывается в концептуальной ловушке, которую сам и соорудил: стремление высказать нечто позитивное о постчеловеческом состоянии тут же пресекается введением антиантропоцентристской концептуальной рамки, заданной философскими и научными соображениями.
Обратимся к роденовскому пониманию технологий. Высказанные Донной Харауэй в начале 1990-х суждения о соотношении эволюции технологий и человечества[7] Роден иронически переиначивает; вопреки традиционной философской позиции, сводящей технику к эргономическим и антропометрическим параметрам, воплощаемым в простетических, вспомогательных средствах, он предлагает применить иную оптику: возможно, антропогенез — это эпифеномен техногенеза, а не наоборот. И в этом случае история человечества — это процесс седиментации человеческого в техническом[8].
В другом месте Роден упоминает британского философа Энди Кларка. Развивая идею, что ментальные состояния являются функциональными состояниями системы, не зависящими от способов ее структурного воплощения, Кларк предлагает особого рода делокализацию ментальной жизни за пределами ее «природного» субстрата. Сознание представляет собой распределенную в среде сеть, где сплетены воедино элементы тел, мозгов и окружающих сред. Это не «расширение» когнитивного устройства в духе Маклюэна, а скорее указание на то, что самой эволюции мозга присуща тенденция делегировать исполнение части когнитивных задач элементам среды в целях оптимизации и ускорения обработки данных. С этим связана идея Кларка, согласно которой люди — «прирожденные киборги», ведь история человечества является историей материальной культуры, которая — в таком прочтении — является историей взаимопроникновения человека и среды[9]. В противовес теории Кларка Роден вспоминает неолитическую революцию — как разрыв, функционально аналогичный тому, о котором шла речь выше. Уже само начало использования инструментов, а также освоение языка характеризовали разрыв, который и произвел прирожденных киборгов[10].
Развивая позиции Кларка и других сторонников гипотезы «расширенного познания» и доводя их до спекулятивного предела, Роден вводит понятие гиперпластичности. Для когнитивистов пластичность в контексте «расширенного познания» означает широкий репертуар когнитивной активности, осваиваемой ансамблем, включающим в себя мозг, тело и среду, отношения между которыми являются динамическими и производят «на выходе» эмерджентные эффекты, непредсказуемые с точки зрения составляющих, взятых по отдельности. В широком смысле пластичность означает способность к неожиданным преобразованиям и освоению новых способов действия в среде.
Роденовская гиперпластичность — это характеристика самомодифицируемых систем «сильного» искусственного интеллекта, умеющих создавать аналитические модели своего программного и аппаратного обеспечения, что позволяет им модифицировать себя согласно собственным целям и задачам (с. 101). Речь идет о том, что возможные постлюди будут обладать столь широкими возможностями модификации своей архитектуры (телесной, когнитивной, иммунной и т.д.), что их феноменологический опыт может оказаться структурированным такими инвариантами, которые будут немыслимы для нас, людей. Например, им могут быть присущи «немоцентричность», т.е. отсутствие персональной субъективности в привычном человеку смысле слова, или же множественность потоков ментальных состояний и темпоральностей, текущих на различных скоростях и переживаемых кем-то, чья самость может иметь мало общего с тем, как мы определяем перспективу человеческого сознания (с. 102).
Понимание гиперпластичных агентов людьми возможно лишь благодаря наличию общего горизонта опыта, что само по себе никак не гарантировано, если гиперпластичные агенты обладают отличными от человеческих способами воплощения, скоростью течения субъективного времени и/или мыслительных операций, а также большей распознающей перцептивной способностью. В таком случае способы формирования горизонтов опыта людьми и гиперпластичными агентами совершенно различны; возникают разные горизонты, наложения которых может и не случиться. Следовательно, ничто не исключает возможности радикальной несоразмерности человеческого и постчеловеческого интеллектов, вследствие чего напрашивается гипотеза: люди и постлюди будут проживать различный опыт, не переводимый друг в друга[11].
За примером гиперпластичности и «немоцентричности» можно обратиться к цитируемому Роденом роману Чарльза Стросса «Акселерандо» (2005). В мире свершившейся Сингулярности приматов заменили выгруженные на цифровые носители копии сознаний нескольких миллиардов людей, размноженных собственными вероятностными «отражениями», вычисляющими альтернативные биографические траектории каждого индивида. Материя значительной части Солнечной системы переработана на «компьютроний» в целях повышения вычислительных мощностей «мозга-матрешки», в котором и обитают остатки утратившего последние антропоморфные черты человечества. Значительная часть происходящих в Солнечной системе процессов, вызванных постчеловеческой активностью, остается непостижимой для горстки людей, остающихся похожими на нас, и скорее напоминает безличные сверхскоростные рациональные обмены экономического характера между разумными валютами и людьми, ставшими корпорациями[12].
Постчеловек здесь — экзокортекс, генерирующий мириаду переносимых разумной пылью копий — отражений индивидуального сознания. Приемлемо ли здесь говорить о преемственности между людьми и постлюдьми, особенно в свете тезиса о разрыве? Можно предположить, что Роден сталкивается с той же проблемой, с которой, по его мнению, сталкивается феноменология, — с затруднительностью различения сущностных и случайных моментов опыта. Здесь же возникает трудность этико-политического характера: возможно ли образование сообщества, включающего в себя людей и постлюдей? Разговор о «мы» как о сообществе агентов, разделяющих общие структуры опыта, моральные нормы или способы действия, не выдерживает критики в случае справедливости тезиса о разрыве[13]. Кое-где Роден упоминает проблему возможности коммуникации людей и постлюдей (с. 190 и др.), и здесь его можно уличить в выходе к еще более спекулятивным построениям.
В связи с неоднозначностью спекулятивного проекта Родена напрашивается вопрос: действительно ли ему удается достичь знания о постчеловеке, которое не было бы секуляризованной версией апофатической теологии? Если ряд опровержений эссенциалистских теорий следует отнести к негативной программе теории постчеловека, то при переходе к изложению позитивной программы возникают проблемы. В частности, контексты употребления терминов «система» и «агентность» двусмысленны: несмотря на то что Роден избегает отсылок к критикуемой им теории дискурсивной агентности, он часто пишет о возможности коммуникации с постлюдьми.
Неоднозначно и понятие ШЧ. Мы полагаем, что Роден вводит его для того, чтобы отграничить свою теорию от теорий в духе кларковской, а также для перехода к теории ассамбляжей, на базе которой устанавливается критерий разрыва. Однако это скорее играет против Родена: расширение границ человечества не упраздняет его субстанциализации и принципиальной возможности отличить его от постчеловечества. Как и другие постгуманисты, Роден отсчитывает свою спекулятивную хронологию от человека, что, как кажется, противоречит подчеркиваемому им антиантропоцентризму. Упомянутое выше разделение двух точек в истории перехода от человека к постчеловеку делает человечество необходимой точкой отсчета для возникновения постчеловечества, что также представляется непоследовательным[14].
[1] NBIC — нано-, био-, информационные и когнитивные технологии.
[2] Термин принадлежит Жану-Мари Шефферу. См.: Шеффер Ж.-М. Конец человеческой исключительности. М., 2010.
[3] Имеются в виду феноменологические теории, идеи Юргена Хабермаса, Джона Ролза и Дональда Дэвидсона.
[4] Понимаемая им как исследование опыта от первого лица, воспроизводящее трансцендентальную установку и, по его мнению, нуждающееся в деконструкции, которую он понимает эклектично как смесь собственно деконструкции «метафизики присутствия» и нейробиологически мотивированного расколдовывания субъективности. См., например: Roden D. Naturalising Deconstruction // Continental Philosophy Review. 2005. Vol. 38. № 1. P. 71—88; Idem. Nature’s Dark Domain: An Argument for a Naturalized Phenomenology // Royal Institute of Philosophy Supplement. 2013. Vol. 72. P. 169—188.
[5] Как, вероятно, заметил читатель, концептуально-стилистическая эклектика книги Родена отразилась и на этой рецензии.
[6] См.: Мейясу К. После конечности. Эссе о необходимости контингентности. М.; Екатеринбург, 2015.
[7] См.: Haraway D. Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. N.Y., 1991.
[8] Более подробно см.: Василенко М., Мирошниченко М. Медиаэкосистемы Антропоцена: к технобиологической эмансипации. Набросок theory fiction // Транслит. 2018. № 21. С. 124—140.
[9] См.: Clark A. Natural-Born Cyborgs. Minds, Technologies, and the Future of Human Intelligence. N.Y., 2003.
[10] Достаточно вспомнить, что, с точки зрения Кларка, к когнитивным технологиям относятся не только артефакты материальной культуры, но и язык как система категорий высокого уровня абстракции, что также способствует конструированию экологической ниши человеческих существ. См.: Clark A. Mindware: An Introduction to the Philosophy of Cognitive Science. N.Y., 2001. P. 140—159.
[11] См.: Roden D. Reduction, Elimination and Radical Uninterpretability // www.academia.edu/15054582/Reduction_Elimination_and_Radical_Uninterpretability.
[12] Stross C. Accelerando. N.Y., 2006.
[13] Заметим, что событием «разрыв» быть не может, поскольку его основанием является сложный технологический комплекс. Роден прибегает к понятию диахронной эмерджентности — возникновения свойства, описание которого не может быть исчерпано описанием его составляющих и которое не актуализуется непосредственно за движением и организацией этих составляющих во временной последовательности. То, как Роден концептуализирует диахронную эмерджентность, не совсем корректно с точки зрения теории сложных нелинейных систем, откуда это понятие заимствуется. Такое определение не позволяет Родену избавиться от однонаправленности линейного времени. См. по этому поводу: Negarestani R. Intelligence and Spirit. Falmouth, 2018. P. 95—108.
[14] Рецензия подготовлена в ходе проведения исследования в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».