Журнальный клуб Интелрос » Неприкосновенный запас » №125, 2019
Александр Александрович Писарев (р. 1988) — редактор, переводчик, младший научный сотрудник сектора социальной философии Института философии РАН, преподаватель института «База».
[стр. 239—252 бумажной версии номера]
Каждый наш обзор охватывает тематически более или менее произвольные номера отечественных интеллектуальных журналов. Тем ценнее совпадения и пересечения, которые удается проследить в этом кажущемся случайным многообразии размышлений и исследований. В этот раз роль своеобразного проводника выполняет «Художественный журнал», посвятивший номер сложным взаимоотношениям порядка и хаоса в масштабах общества, планеты и даже космоса. Одни его материалы перекликаются с номером «Логоса» об исследованиях науки и технологий — ведь наращивание корпуса технологий ведет к ускорению и трансформации социальной жизни, — другие же стремятся вернуться к полузабытым или списанным было в архив авторам, чтобы обнаружить в их идеях решения современных проблем или оптику взгляда на них. Продолжая эту интенцию, «Стасис» разворачивает обсуждение актуальности советского неортодоксального марксизма. Точкой встречи хаоса и порядка является кризис — понятие, которого явно недостает в словаре авторов «Художественного журнала», зато «Логос» посвящает ему целый номер. И, наконец, «Ab Imperio», солидаризируясь с коллегами, на ряде кейсов показывает, что чистые формы обнаруживают гибридную природу и должны оставаться категориями анализа, а не реальности.

Очередной номер «Художественного журнала» (2018. № 107) под заголовком «Новый беспорядок» посвящен сложным взаимоотношениям социально-политического порядка и хаоса, а также месту искусства в них. Авторы дискуссии используют различные рамки и языки анализа (психоаналитический, критико-социологический, неомарксистский, неолиберальный, идентитарный и другие), что делает дискуссию разносторонней и богатой на расхождения и интерпретации.
Илья Будрайтскис и Вячеслав Морозов вводят методологически важный в контексте темы критический тезис (с. 15): не существует никакого естественного описания порядка, позволяющего «схлопнуть» зазор между предметом и его описанием. Говоря о порядке, мы неизбежно обсуждаем его конкретное описание, сделанное из конкретной точки зрения в поле политических альтернатив, а любое описание частично и неполно — всегда останется ускользнувший от представления излишек. Поэтому любая репрезентация порядка является идеологией, и обсуждается не сам порядок, а его образ, данный с определенной точки зрения. Потому дискуссия о нем — это спор разных идеологий и языков описания реальности, за которыми стоят конкретные прагматические расклады.
Точкой отсчета для обсуждения стала статья Виктора Мазина и Олеси Туркиной «Новый Бес-Порядок» (1995), содержавшая диагноз 1990-х как эпохи в истории современного российского искусства. Она характеризовалась отсутствием единого нарратива во всех сферах, непрерывной Пере-Стройкой всего и вся после разрыва сложившихся горизонтальных и иерархических связей. Спустя почти четверть века Виктор Мазин возвращается к старым текстам и пересматривает свой диагноз, чтобы проанализировать текущую эпоху в психоаналитической рамке. На смену «Новому Бес-Порядку», с его художественными стратегиями коллажирования и монтажа, коллективизмом и дружбой, в 2000-е пришел «Новый Порядок». Его отличительные черты — переписывание истории, капитализация авторства и погоня за архивами. Будучи перверсивным по своему характеру, он скрывает в себе, как в мираже, всегда уже «Новый Бес-Порядок». Искусство в текущей ситуации, по Мазину, способно «проливать свет на его тени и подобия». Чтобы такой диагноз стал содержательным, он должен быть дополнен аналитикой порядка.
Если Мазин связывает смену порядка и беспорядка с капитализмом, то Илья Будрайтскис и Вячеслав Морозов в своей беседе, напротив, разводят политический миропорядок и экономику. Идеология господствующего сейчас миропорядка — либеральная, и она пребывает в кризисе. Либеральный миропорядок в последние десятилетия скукоживается, из него выпадают и вытесняются группы, силы и идентичности; он теряет способность к рефлексии и догматизируется. В противоположность ему капиталистическая экономика рефлексивна и инклюзивна, хотя и не для всех одинаково (с. 16–17). Эта динамика либерального порядка сама ведет к нарастанию хаоса. В либеральной идеологии порядок, ассоциируемый с государством и, шире, институциональной сферой, считается чем-то естественным, тогда как хаос — нарушение порядка извне, его сбой (с. 19). Чем больше сил и групп исключаются из либеральной системы, тем больше размер внешней ей области как источника возможного хаоса (несложно заметить сходство с современной российской политикой). Иными словами, ригидность либерального порядка через процедуры исключения производит лишь хаос и его агентов.
Напротив, в традиции, идущей от Томаса Гоббса и захватывающей Карла Шмитта, Жака Деррида, Шанталь Муфф и других авторов, беспорядок и хаос являются внутренней возможностью порядка: они блокируются им, но одновременно являются частью его формы и его продолжением. В этой рамке государственный национальный порядок есть не нечто естественное, а результат усилия, совершаемого на фоне естественного хаоса или борьбы всех против всех. Как и в либеральном порядке, здесь «стремление к управляемости мира приводит к еще большей неуправляемости» (с. 41). Это близко как либеральной демократии, так и консервативным и религиозно-консервативным установкам (условность государственного порядка на фоне хаоса греховного мира, с. 39). Именно такого типа идеология характерна для современной России.
Анализ российской идеологии порядка читатель найдет в статье Ильи Будрайтскиса. По его словам, «ценность этого порядка определяется его хрупкостью и непостоянством, а его устойчивость возможна лишь благодаря постоянному присутствию воспоминаний о реальности хаоса в коллективной памяти» (с. 37). Иными словами, сохранение генетической связи с хаосом и риск утраты — условия ценности российского порядка и повиновения индивидов. Во-первых, индивиды отдают себе отчет в условности порядка, видя в его прорехах нижележащий хаос, поэтому отказываются от коллективных проектов радикальных перемен и атомизируются в коконе физической безопасности. Во-вторых, консервативное самоописание российского порядка, обращенное в прошлое, позволяет увидеть порядок в хаосе истории: преемственность тысячелетней государственности вопреки «переворотам и восстаниям, хаосу борьбы и конфликтов» (отсюда тоска по «подлинному порядку» и успешность правых популистских движений). Таков «либерально-консервативный консенсус презентизма — господства настоящего над прошлым и отказа от проектов лучшего будущего, — выражением которого на уровне повседневности становится деполитизация и скепсис в отношении коллективных действий» (с. 40).
Связь государства биополитического толка и атомизированного в своей судьбе индивида тематизируется Борисом Гройсом. Повторяя общие места биополитических исследований, он указывает на бюрократическую природу рождения и смерти (с. 27). «Основной деятельностью государства является приготовление населения к смерти. Именно государство обучает граждан осознавать себя смертными — и начать беспокоиться о страховках, пенсиях и наследниках» (с. 31). По Гройсу, современное государство хранит Ничто и пустоту, так как создает угрозу тотального уничтожения и одновременно защищает от него, сдерживает хаос, очерчивая пространство безопасности, и одновременно является его источником.
Краткий обзор культурной идеи хаоса представлен в статье Марко Сенальди. Он вписывает эту идею в контекст истории мистицизма, алхимии и рождения науки, демонстрирует ее постепенную секуляризацию и сциентизацию. Здесь можно найти, к примеру, небезынтересные суждения вроде оптимистичной сентенции верховного капеллана Карла I Джорджа Хейквила по поводу новой астрономии Коперника и Галилея: «Если человек более не является центром творения, становится невозможным, чтобы его грех растлил весь космос» (с. 46). К слову, так начинает формироваться модернистский мир прогресса, в котором хаос пустеет и становится абстрактным, сближаясь с чернотой бесконечного космоса, чтобы, в конце концов, оказаться заключенным в «Черный квадрат» Казимира Малевича.
Интерес к космосу, а также к другим биологическим видам, фантастическим чудовищам и радикально иному вообще характерен для теоретико-художественной повестки последнего времени, переполненной возвращенными из полузабытья фигурами вроде пресловутых русских космистов. Эти темные области, скрывающие хаос под соусом ужаса, тематизируются в различных «темных» течениях на границах литературы, медиа-теории и философии. Им посвящен чрезвычайно насыщенный обзор Станислава Шурипы.
В этом контексте отдельного упоминания заслуживает обстоятельная статья Алексея Пензина. Опираясь на «Космологию духа» Эвальда Ильенкова, он перекидывает мостик между космологическим воплощением хаоса в бесконечной Вселенной и земным порядком. Согласно второму началу термодинамики, хаос в мире естественным образом увеличивается (энтропия). Инстанцией, противостоящей этому процессу и производящей порядок, по Ильенкову, является мышление, то есть финальная стадия развития материи. Вследствие энтропии Вселенную предположительно ждет тепловая смерть, однако мышление, придя к коммунизму и бесклассовому устройству общества, сможет создать технологии, которые позволят преодолеть этот процесс и добиться автономии относительно материальных условий существования (с. 56). Более того, космологическая функция мышления состоит в том, чтобы «перезапустить» Вселенную: предотвратив тепловую смерть и пожертвовав собой, запустить Большой взрыв — своеобразное всесожжение миров. В этом смысле оно необходимый атрибут бесконечной материи, посредством которого последняя воспроизводит себя. Пензин предлагает целую палитру прочтений сочинения Ильенкова. Например, согласно одной из них, космология Ильенкова — «коммунистическая мифология разума», сжато и доступно передающая предельные смыслы коммунистического проекта. Кроме того, Пензин показывает его актуальность в контексте двух современных спекулятивных проектов — онтологии события Алена Бадью и спекулятивного реализма в версии Квентина Мейясу.
Приветствуемое Ильенковым наращивание массива технологий отнюдь не однозначно. Им, помимо прочего, обусловлено нарастание хаоса: технологии ускоряют процессы и неизбежно делают возможными новые типы катастроф. Как показывает на множестве примеров Дмитрий Галкин, осмысление и критика такого техногенного хаоса и его субстратов, машин, входит в компетенции science art.
Обстоятельный анализ трансформаций сферы искусства в условиях «неолиберального рынка» читатель найдет в статье Николая Смирнова. Он показывает, что собственные механизмы этой сферы постепенно замещаются рыночными или искажаются под их влиянием, о чем свидетельствуют такие явления, как фрипортизм, зомби-формализм и эстетика долга. В сложившейся неолиберальной повестке рынка современного искусства центральную роль играет провоцируемый им хаос становления и разложения идентичностей в поле «Я», превратившегося в ассамбляж. Смирнов кратко описывает историю культурного релятивизма, подводя ее к постэкзотизму (с. 69) и показывая, как ведущую роль в сфере современного искусства захватывают диаспоры объектов. Впрочем, в предложенном им анализе вызывает вопросы очередная и необоснованная попытка выставить спекулятивные и объектно-ориентированные философии, столь популярные в современном искусстве, апологетами и акторами капиталистического режима.
Рефлексию экономической стороны современного искусства в условиях неолиберализма продолжает Хито Штайерль. Она показывает, что центральной категорией художественной профессии, вместо рабочей силы и производства объектов, стало присутствие. Художник должен длить свое якобы неотчужденное присутствие в бесконечных уникальных событиях (лекциях, (пред)просмотрах и так далее), присутствовать в режиме ожидания и доступности, синхронизации графиков разных процессов, постоянных нарушений и дедлайнов. Для осмысления этого способа существования Штайерль вводит понятие мусорного времени и привлекает Dasein-аналитику Хайдеггера.
Как видно, основные группы дискутирующих разбились на тех, кто толкует о хаосе, скрытом под неолиберальной мостовой, отчуждении и критической роли искусства в этой ситуации, и тех, кто прибегает к ресурсам спекулятивных теорий и тяготеет к эстетизации «капиталоцена» и экологизации искусства. Между этими лагерями нет прямой дискуссии во многом из-за разницы между критической и аффирмативно-спекулятивной установками. Можно предположить, что их коммуникация между собой намечается в тематизации хаоса как технологически инспирированного состояния, однако эта линия размышлений представлена в номере лишь фрагментарно.

Нехватку технологической критики компенсирует очередной номер журнала «Логос» (2018. № 5), посвященный исследованиям науки и технологий (Science and Technology Studies, STS). Эта область активно развивается уже не первое десятилетие, здесь накоплен обширный арсенал теоретических и эмпирических инструментов. Что важно, авторы показывают политическую природу и следствия анализа науки и технологий.
Номер открывается интервью Сергея Астахова и Евгения Быкова со Стивом Фуллером —основателем социальной эпистемологии и одной из самых неоднозначных фигур в STS. Оно примечательно прослеживаемыми Фуллером связями между этим исследовательским полем, упомянутым выше возвращением русского космизма (с. 9), утопиями постчеловеческого и трансгуманизмом. Во многом перекликаясь с Ильенковым, Фуллер предлагает свою версию дальнейшего развития человечества: оно основано на изменении распределения ответственности и отношения к риску внедрения технологий (уже не угроза, а возможность) и переходе от принципа предосторожности к принципу проактивности.
Теоретический блок номера можно разделить на две неравные части. Бóльшая его часть посвящена акторно-сетевой теории, занимающей центральное место в российской рецепции STS (см. например первые два номера того же «Логоса» за 2017 год, а также номера журнала «Социология власти»). В оппозиции этим материалам — статья Ольги Столяровой. Отталкиваясь от методологического затруднения исследований науки в целом — проблемы применения принципа рефлексивности, — она сосредотачивается на анализе концепции третьей волны STS Гарри Коллинза, давнего оппонента акторно-сетевой теории и Бруно Латура. Коллинз попытался преодолеть указанный принцип путем обращения к ресурсам философской онтологии «социального картезианства» и обосновать с ее помощью реальность экспертного знания. Опираясь на проект Коллинза, Столярова показывает возможность философского обоснования STS, традиционно эмпирической и нефилософской (и даже антифилософской, с. 32) дисциплины.
Акторно-сетевая теория, впрочем, не менее философски фундирована, просто это другая философия, более близкая постструктурализму. Генеалогия этого подхода сложна и включает в себя философские, социологические и лингвистические истоки. Последним посвящена статья Андрея Кузнецова: он анализирует методологический аспект структурной семиотики Альгирдаса Греймаса и утверждает, что именно тот оказал наибольшее влияние на метод Бруно Латура (c. 87). Акторно-сетевой подход, впрочем, не исчерпывается изысканиями Бруно Латура. Это также и Джон Ло, и Аннмари Мол — их подходам посвящен текст Николая Руденко. Тематизируя центральное для них различие множественного и плюрального и артикуляцию множественного, он демонстрирует, как им удается пройти между Сциллой и Харибдой социального конструктивизма и релятивизма.
В отношении любой эмпирически ориентированной теории всегда первым делом возникает вопрос, как именно ее практиковать. Ведь самоописание, или теоретический анализ метода, и его фактическое применение — далеко не одно и то же. Ответ на этот вопрос читатель найдет в статье Томмазо Вентурини. Она посвящена созданной Латуром учебной версии акторно-сетевого подхода, лишенной некоторых его концептуальных трудностей — картографии разногласий.
«Согласно этому подходу, все, что достигает коллективного существования, является плодом коллективной работы, и разногласия — это те условия, в которых эта работа наиболее заметна... Разногласия сложны потому, что они — тигель, в котором социальная жизнь расплавляется и переплавляется: это социальное в его магматическом состоянии» (с. 66–67).
Вентурини разбирает особенности и правила работы с разногласиями; это весьма ценный материал, если учесть, что местная рецепция данного подхода протекает в основном через усвоение теории, а не эмпирическую практику. Пример продуктивного теоретического освоения акторно-сетевой теории читатель найдет в тексте Алексея Салина, использующего ресурсы этой теории вкупе с философией Юргена Хабермаса для построения концепции жизненного мира, в которой влияние материального фона являлось бы решающим.
Если первый блок — о технологиях исследования, то второй состоит из исследований технологий, формирующих ткань повседневности. Многие из авторов этого блока используют ту или иную версию акторно-сетевой теории или же находятся под ее влиянием. Выделим прежде всего классический эмпирический кейс Джона Ло о технологической подоплеке португальской морской экспансии в XV–XVI веках. Его подход гетерогенной инженерии предполагает следующее:
«При создании технологических систем происходит ассоциирование и канализация разнородных сущностей и сил, как человеческих, так и нечеловеческих. Тем самым открывается возможность анализировать, как в существовании той или иной системы на равных участвуют самые разные факторы» (с. 169).
Кейс Ло интересен и как исторический текст, и как пример социологического анализа техники.
Кроме того, внимания читателя заслуживает глава из книги Харис Томпсон, посвященная полевому исследованию клиник вспомогательных репродуктивных технологий. Это впечатляющий синтез аналитической философии личности, эмпирической методологии и феминистского анализа. Вопреки распространенному в феминистских исследованиях отождествлению объективации с отчуждением и лишением агентности в клинике, как показывает Томпсон, медицинская объективация может выступать элементом длинного маршрута, собирающего впервые активированные в клинике части тела, элементы материально-технической обстановки (сеттинга) и институциональной среды, чтобы впоследствии привести к успешному оплодотворению. Как и в анализе Ло, эта цепочка сработает, только если все ее звенья будут в наличии и выполнят свои «обязательства». В противном случае тело останется объективированным и отчужденным от личности пациентки. Томпсон удается связать объективно фиксируемые этапы процедуры и самость пациентки — ее субъективные ощущения по итогам лечения.
Закрывают номер две рецензии, посвященные конкретным исследованиям технологий формирования единого тела пациента и укорененной в мозге самости. Ангелина Баева и Полина Ханова, продолжая тематику этнографического исследования телесных практик и лечения, анализируют книгу Аннмари Мол «Множественное тело. Онтология в медицинской практике». В центре внимания Мол — множественность исполнений тела в конкретных практиках (диагностических, оперативных, терапевтических) и способы сборки единого тела в пределах клиники. В методологическом плане ее исследование — пример артикуляции множественного, о котором пишет Руденко. Рецензия примечательна двухчастностью: верхний текст критически излагает основные идеи книги, нижний — подвергает ее философскому осмыслению в оптике деконструкции и объектных онтологий.
Во второй рецензии Александр Писарев, продолжая тематизацию практик конституирования самости у Томпсон, рассматривает книгу Франсиско Ортеги и Фернандо Видаля «Быть мозгом: создание церебрального субъекта». Это постфукольдианское исследование формирования самости в нейродискурсах, в центре которого — история церебрального субъекта, то есть такого представления о человеке, в котором личность тождественна мозгу и определяется им в своем поведении. На основе нейронаучных результатов и образов за пределами академии рождается большое количество «нейродискурсов», эксплуатирующих авторитет науки и претендующих на формирование практик субъективации. В рецензии приводятся примеры таких дискурсов и практик, указываются особенности их функционирования.
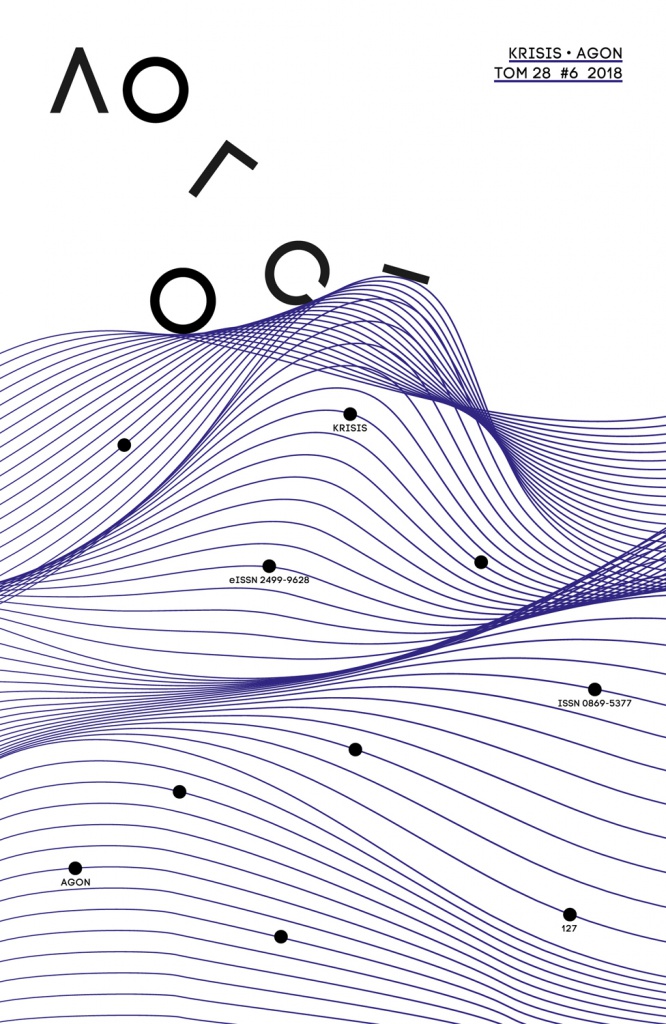
Следующий номер «Логоса» (2018. № 6) посвящен кризису как проблеме истории и методологии. (Эта тема в основном была упущена в дискуссии авторов «Художественного журнала», ведь кризис и есть точка встречи порядка и хаоса.) Редактор номера Борис Кагарлицкий сразу отмечает, что никакой общей теории причин и логики кризиса не существует, поэтому каждый кризис в конкретной области общественной жизни исследуется как уникальный и специфичный. Коллекцией таких системных кризисов и является данный номер журнала (с. 21). Впрочем, несмотря на разнообразие, рабочее определение кризиса все же есть: это нарушение процесса воспроизводства.
Традиционной сферой, в которой кризисы расцветают особенно пышно, разнообразно и часто, является экономика. У исследований экономических кризисов богатая история, и одной из значительных ее вех является идея цикличности. Подробнее о циклической природе кризисов пишет Василий Колташов, рассматривающий всю историю рыночных систем в оптике кризисов. Отталкиваясь от кризисов 2008–2009-х и 2013–2016 годов, он проводит различие между «обычными» торгово-промышленными кризисами и «большими кризисами» и переходит к обсуждению циклов большой длительности, обращаясь к теории Николая Кондратьева. Наращивая длительности, во второй части статьи Колташов анализирует хозяйственные кризисы, знаменующие смену уже не волн, а целых формаций (такие кризисы имели место, к примеру, в III и XIV веках).
Алексей Симоянов анализирует причины и логику кризиса, в котором оказалось социальное партнерство. Эта модель трудовых отношений заключается в сотрудничестве ставшего влиятельным и массовым рабочего класса и правящего класса, вынужденного идти на уступки (с. 76). Она позволяет перейти от конфликта к диалогу и смягчить социальную борьбу. В условиях же ослабления профсоюзного движения, кризиса социал-демократического проекта и ослабления механизмов представительства эта модель потеряла свою действенность, а основанные на ней институты перестали отстаивать социальные и трудовые права граждан, став «бессодержательной абстракцией» (с. 80) и «элементом бессодержательного декоративного бюрократизма».
Рабочий класс был частично замещен разнородным порождением неолиберального экономического режима и кризиса социального государства — прекариатом. По мнению Леонида Фишмана, эта социальная группа является наследницей среднего класса, отнюдь не претендующей на статус революционного класса и «могильщика капитализма» (даже в его левых репрезентациях). С «идеологической конструкцией» прекариата, как ранее со средним классом, связываются надежды на стабилизацию демократии (с. 96, 99). «Старый средний класс сломался, но уже почти готов другой — принесите его, как только он обретет „классовое сознание“». Если базовые требования прекариата будут удовлетворены, он может стать новым, стабилизирующим либерально-демократические политические режимы сословием. При этом он станет слоем зависимых от государства политических рантье, влияние которых будет обусловлено в основном социально-политическим статусом, а не экономической ролью.
Вторая половина номера состоит из критических дискуссий, разворачивающихся на разных территориях. Материалов этого жанра остро не хватает в отечественной интеллектуальной периодике, поэтому замечательно, что выходит целый блок, состоящий из такого рода текстов. Дискуссия позволяет не только обнаружить значимые концептуальные и политические расхождения и противоречия, но и помогает картографировать пространство российской мысли, столь бедное на ярко выраженные позиции и противостояния.
Борис Кагарлицкий подвергает разгромной критике книгу Льва Данилкина «Ленин. Пантократор солнечных пылинок», называя ее «полноценным постмодернизмом». Автору вменяются внутренние противоречия и нестыковки, легкомысленность и поверхностность выводов, произвольность выбора источников, пренебрежение историческими работами и приверженность конспирологическим теориям, непоследовательность в организации книги и многие другие недостатки. «К концу книги читатель, пытающийся что-то выяснить о судьбе вождя русской революции, остается совершенно сконфуженным и запутавшимся, зато Данилкин встает перед ним как живой» (с. 157). Данилкин отвечает не менее едко, комментируя обвинения Кагарлицкого поцитатно.
Другая дискуссия разворачивается вокруг книги Алексея Апполонова «Наука о религии и ее постмодернистские критики» и понятий религиозного и светского. Помимо отсутствия концептуальной ясности, Дмитрий Узланер обвиняет автора в том, что, защищая науку о религии, тот фактически выплеснул вместе с водой и ребенка, так как защита свелась к разоблачению целого академического направления — критических исследований религии (с. 164) — и попытке свести на нет все рефлексивно-методологические завоевания науки о религии последних десятилетий. Кроме того, Апполонов якобы не понял переход от домодерной к модерной и далее — к постмодерной концептуализации светского, в связи с чем Узланер кратко объясняет эти трансформации. В целом его реплика заслуживает внимания тех, кто интересуется перипетиями истории дихотомии религиозного-секулярного. Апполонов отвечает достаточно убедительно, показывая на фактическом материале ложность, противоречивость или неоднозначность некоторых выкладок Узланера. По его мнению, критик прошел мимо главного тезиса книги о статусе теоретического понятия «религия». Стоит отметить, что, как и в предыдущей дискуссии, центральным оказывается обвинение в постмодернизме (только в данном случае «постмодернистом» оказывается автор рецензии). Некоторые традиции постсоветского интеллектуального пространства незыблемы и объединяют целые поколения отечественных интеллектуалов.
Концептуальный накал поддерживается в двух других спорах (местами превращаясь в концептуальный угар). Один развернулся вокруг интерпретации проекта единства мира философа Василия Кузнецова (полемизируют Никита Сазонов и Александр Ветушинский), другой — вокруг текущего состояния аналитической философии (Константин Скрипник и Игорь Джохадзе). Они репрезентируют совершенно разные круги российского философского сообщества с разными представлениями о критериях выполнения мыслительной работы и разными референтными философскими фигурами.
«Стасис» (2017. № 2) продолжает ревизию советской и постсоветской мысли номером, посвященным актуализации различных продуктов советского марксизма. Здесь почти нет неожиданных имен — все активно обсуждаются и даже публикуются (Лев Выготский, Борис Поршнев, Георгий Плеханов, Александр Богданов, Эвальд Ильенков, Михаил Лифшиц), зато есть интереснейшие сопоставления современной мысли и тезисов советских классиков, а также переосмысление последних без колониальности и экзотизации. Общая тональность материалов номера хорошо резюмируется выдержкой из краткого предисловия редакторов:
«Лучшие образцы советской мысли, родившейся в „большом взрыве“ Октябрьской революции, были не менее радикальными, экспериментальными и эвристическими для своего исторического времени, чем, например, „Негативная диалектика“ или „Анти-Эдип“, и, возможно, с их критическим отношением к западному марксизму, они предвосхитили современное положение дел» (с. 299).
Одной из важных причин актуальности советской мысли сейчас является то, что родовым событием для нее стала октябрьская революция, а потому «вместо того, чтобы спрашивать, как критиковать капиталистическое общество, она спрашивала: что обществу следует делать после революции» (с. 421). Отсюда — недогматическое обращение к истории философии. Например, в 1920-е она формулировала и преодолевала дилеммы (Гегель или Спиноза, имманентность или диалектика), попавшие в фокус внимания в западной философии только в 1960-е.
Советский марксизм весьма неоднозначен, у него были свои взлеты и падения. Он вовсе несводим к монолитному диалектическому материализму и богат на различные позиции и острые дискуссии. (О классификации советского марксизма см. реплику Валерия Подороги в беседе с Кети Чухров и Алексеем Пензиным.) Это хорошо показывает в своей статье Евгений Павлов. Он представляет обширный и подробный историко-концептуальный анализ позиций и аргументов дискуссий Богданова с Плехановым и Лениным, представителями «ортодоксального марксизма», об истине.
Так, дискуссия с Лениным, попытавшимся представить Богданова отступником от постулатов марксизма, оборачивается обвинением первого в том, что ленинский подход к марксизму основан на вере в незыблемость постулатов как абсолютных истин. Согласно Богданову, марксизм — наука и должен адаптироваться к изменяющимся условиям исследований, что означает, что есть только относительные истины (с. 365). В его синтезе марксизма и эмпиризма мерилом любой истины является организуемый ею опыт, в котором нет ничего абсолютного; наука в этом смысле является формой коллективной организации опыта (тезис, взятый на вооружение современными историками науки, например Лоррейн Дастон и Питером Галисоном). Павлов, как и Пензин в статье об Ильенкове в «ХЖ», помещает позицию Богданова и ее аргументы в контекст современной спекулятивной философии Квентина Мейясу и инициированной им дискуссии о недостатках корреляционизма (с. 367). Кроме того, он отмечает, что в этих спорах Ленин вовсе не одержал победу, как то представлялось позднее. Напротив, споры о верной интерпретации Маркса и Энгельса, о будущем социалистического государства продолжались и завершились лишь их подавлением в 1929–1930 годах: именно тогда «диалектический материализм возник как военизированная (и репрессивная) версия марксизма с очевидной целью создания ригидной и систематической доктрины „научного социализма“» (с. 377, 379).
Все обсуждаемые в номере фигуры (за исключением Пашуканиса), по мнению Артемия Магуна, можно объединить в одну «школу». Это весьма условное обозначение, поскольку многие из относимых к ней даже не были знакомы (например Бахтин и Выготский). Тем не менее для их концепций характерен ряд общих черт, например, ключевая роль культуры, внимание к деятельности субъекта, коллективная природа человеческой субъективности, телеология прогресса, лингвистическое опосредование и стихийность «обычных людей» как объяснительная категория (с. 478).
Пристальное внимание к этой стихийности характерно для теории антропогенеза Бориса Поршнева (с. 492). Магун резюмирует ее следующим образом: «Люди появились благодаря изобретению языка, орудия суггестии (внушения), которое позволило им подчинить животных и другие человеческие группы своей воле, а также сопротивляться воле других людей» (с. 483). Несмотря на опору на палеонтологические данные и традицию эмпирической психофизиологии, эта теория граничит с мифом, и перейти эту черту ей не дает лишь строгая диалектическая логика аргументации. Магун показывает, что на первый план в ней, в отличие от ортодоксальной диалектики и в унисон с Выготским, Ильенковым и Лосевым, выходит негативность как сила (с. 494). Негативная диалектика, таким образом, существовала не только во Франкфуртской школе, но и в советском неортодоксальном марксизме. Магун сравнивает гипотезу Поршнева с современными гипотезами о происхождении человека и языка, а также сопоставляет отдельные ее элементы с идеями мыслителей XX века и выявляет те, что сохраняют актуальность сейчас.
Паскаль Северак предлагает параллельное прочтение Выготского и Спинозы в контексте проблематики философии сознания. Основанием сопоставления мыслителей становится монистическое и материалистическое определение сознания не через личностное мышление («я мыслю»), а через межличностное, социальное отношение («человек мыслит»). Северак показывает одновременно простую и двойственную природу сознания («идеи идеи»), по Спинозе, неотделимого от телесных аффектов. Выготский занимает близкую позицию, говоря о сознании («переживании переживания») как удвоении поведения и переплетении двух потоков, собственно сознательного и потока физических впечатлений. Каузальная замкнутость сознания нарушается посредством переживания среды у Выготского и аффекта у Спинозы, которые связывают его со средой и впускают в него модифицирующую его социальную ситуацию. А поскольку индивид — сам частичная причина переживаний/аффектов, становится возможным его определение Выготским как «социального контакта с самим собой» (с. 411). Любая психическая функция одновременно и социальное отношение (с другими), и психическое (с собой).
Актуализацию идей Выготского продолжает Мария Чехонадских. Она обращает внимание на понятие индивидуации, центральное для его концепции коммунистической субъективности, в которой социальное трансформируется в психическое путем сложной системы опосредований (с. 423). Вырастая из эпистемологии Маркса (с. 434), оно связывает между собой гегелевскую диалектическую логику опосредования и спинозистскую концепцию деятельности, а также витализм и социальный конструктивизм. Чехонадских помещает идеи Выготского в контекст обсуждений индивидуации Этьеном Балибаром, Жильбером Симондоном и Паоло Вирно и предполагает, что они могут помочь в преодолении дилеммы Гегель/Спиноза (имманентность/диалектика) в современной левой мысли. Статьи Северака и Чехонадских хорошо дополняют друг друга и многосторонне представляют теорию субъекта и сознания Выготского и ее актуальность сегодня.
Тройственная система Маркс—Спиноза—Гегель оказывается в центре исследования еще одного автора — Андрея Майданского. В этой рамке он детально обсуждает понятие идеального у Эвальда Ильенкова и сопоставляет его с теориями европейских марксистов. Алекс Левант в свою очередь реактуализирует теорию деятельности и идею «мыслящего тела» Ильенкова в контексте материалистического поворота в современной философии с его тезисом об агентности материи.
Единственное малоизвестное широкой аудитории имя в списке героев номера — Евгений Пашуканис, советский теоретик права 1920–1930-х. Журнал перепечатывает посвященную ему статью Антонио Негри 1973 года с послесловием 2016 года. Он подробно разбирает теорию Пашуканиса, а также ее ревизионистское прочтение, чтобы отвергнуть последнее (с. 333) и продемонстрировать радикальную новизну идей советского правоведа. Пашуканис сумел связать Марксов анализ формы стоимости, теорию государства и капиталистического господства с юридической формой и развитием права в буржуазном обществе.
«Пашуканис действительно был в числе первых (и, к сожалению, в числе последних марксистских теоретиков права), кто верно уловил марксовскую точку зрения, в оптике которой — по ту сторону от абстрактного и схоластического противопоставления базиса и надстройки — право диалектически рассматривается как форма реального процесса обмена, лицевая сторона меновой стоимости» (с. 307).
Впрочем, Негри критичен по отношению к идеям Пашуканиса, выявляет противоречия внутри них и отмечает, например, что иногда тот позволяет себе «определенную редукцию юридических категорий и формы права к области простого товарного обмена» (с. 311). В послесловии он вписывает теорию Пашуканиса в контекст собственной поздней философии, содержащей анализ институционально-правовой структуры глобальной «Империи», и показывает, в чем эта теория актуальна для сегодняшнего юридического мышления.
Своеобразный итог обсуждения актуальности советского марксизма подводит интереснейшая беседа Алексея Пензина, Кети Чухров и Валерия Подороги. Ее участники обсуждают неоднородность этого интеллектуального явления, следствия изолированности от западных культурных процессов, его отношение к Марксу и марксизму и политико-культурные условия существования.
Одним из очевидных выводов начатой в журнале «Стасис» дискуссии может быть признание, что не существует никакого «советского марксизма» как чистой формы. Это гибридное образование, требующее тщательной работы по различению составляющих. Чистые и гомогенные сущности (например пол, нация, идентичность, модерность) возможны только как категории анализа, то есть абстракции (скажем, «идеальные типы»), а не реально существующие вещи. Однако же чистые формы продолжают наполнять социальное воображение и сохраняют свою действенность. Этим исторически выполняемым функциям посвящен номер «Ab Imperio» (2018. № 2).
Примером утверждения изначальности гибридности являются методология и исследования американского антрополога Франца Боаса. В своем исследовании еврейских иммигрантов он релятивизировал понятие «расы» с целью реабилитировать идею Америки как «плавильного котла» и доказать ассимилируемость евреев в современное ему общество. В противоположность этому подходу, как показывает Марина Могильнер, дореволюционные и раннесоветские еврейские антропологи, этнографы и медики ставили себе целью сохранить единство пространственно распыленного и культурно неоднородного народа путем его саморасоизации при сохранении многообразия социальных и культурных форм. Этот проект подробно разбирается Могильнер на трех кейсах: США начала ХХ века, позднеимперской России и раннего СССР.
Другой пример работы чистых форм — черносотенное движение (Союз русского народа) на Украине и, в частности, на Волыни. Вопреки сложившемуся стереотипу черносотенцев как воинственных украинофобов в национальном составе этого движения русские составляли меньшинство, а большинство лидеров были украинцами и, более того, активно использовали украинский язык и элементы украинской культуры как инструмент решения своих задач. Например, по их инициативе был опубликован украинский перевод Евангелия. Этот факт входит в противоречие с чистыми групповыми формами — русского национализма и украинской нации, но до недавнего времени историки либо игнорировали его, либо не делали существенных выводов. В своей книге Климентий К. и Климентий Ф. Федевичи интерпретируют волынских черносотенцев как правое, монархистское крыло украинского национального движения. В предисловии к номеру редакторы отмечают, что «выбор коллективной лояльности не сводился к тому или иному национализму, но мог быть сложносоставным, гибридным или вовсе анациональным, имперским: и не русским, и не украинским» (с. 21). Украинские историки Денис Шаталов, Михаил Гаухман и Андрий Заярнюк в своих статьях подвергают гипотезу Федевичей критическому анализу.
Большой областью бытования чистых форм является модернизация, поскольку в ходе ее и модернизируемое множество, и ожидаемый результат процесса подвергаются концептуализации, задействующей эти формы. В ряде случаев, например, при поселенческой колониальной политике, она ведет к субстанциализации чистых форм. Ряд материалов номера посвящен модернизации и развитию Средней Азии в советский и постсоветский периоды.
В проведенном Никколо Пианчолой анализе «Великого голода» 1931–1933 годов в Казахстане показывается, что причиной этого трагического события была насильственная сталинская модернизация и неоколониальная политика, игнорировавшая специфику кочевого уклада казахов. В сталинской «иерархии потребления» (с. 89) они занимали низшую ступень как малополезный советскому государству, «отсталый и непродуктивный народ» (с. 109); изъятие у них скота, основного экономического ресурса, неизбежно вело к голоду. Вследствие этого среди казахов жертв голода было на порядок больше, чем среди европейцев, проживавших на территории республики (с. 81). Пианчола детально анализирует ситуацию, выясняя все причины такой диспропорции. В этом кейсе схема модернизации — сама по себе чистая форма — была воспринята как план действий, а не как идеальный тип. Модернизационная схема перевода скотоводческого сектора в режим оседлости и эволюции «отсталых» народов стала общей рамкой продовольственной политики в данный период и реализовывалась вопреки фактической ситуации.
Продолжая тему модернизации в Средней Азии, Флора Робертс исследует перипетии борьбы региональных элит Узбекской и Таджикской ССР при строительстве Кайраккумской ГЭС на Сырдарье на рубеже 1940–1950 годов. Спорным вопросом было расположение ГЭС, чье водохранилище отнимало огромные сельскохозяйственные территории. Робертс возвращает историческую субъективность республиканским элитам, сохранявшим способность протестовать против планов Москвы даже в разгар сталинизма.
Таким образом, представленные в номере статьи отражают противоречивое положение чистых форм в современной истории. С одной стороны, за ними могут скрываться гибриды, требующие другой оптики и попросту более тщательного изучения предмета. В этом отношении чистые формы — атрибут своего рода ускорения мышления в тех полях, где оно не замедляется детальностью и сложносоставностью эмпирического исследования. С другой стороны, чистые формы все же могут быть реально действующими историческими акторами, и тогда исследование должно показать, какими способами они конструируются и воплощаются.