Журнальный клуб Интелрос » Отечественные записки » №6, 2012
150-летний юбилей отмены крепостного права прошел почти незаметно. Даже научная общественность редко о нем вспоминала, очень удивляясь, когда ей предлагали вычесть 150 из 2011. Нехитрая математическая операция непременно наводила на мысль о необходимости очередной научной конференции, которыми отметились все имеющие к этому отношение учреждения. Ведь едва ли у кого-нибудь могут быть сомнения, что издание Положений 19 февраля 1861 года — одно из ключевых событий российской истории, во многом предопределившее дальнейший ход событий. И все же юбилей прошел не напрасно. Хотя бы потому, что именно к нему было приурочено издание монографии Игоря Анатольевича Христофорова.
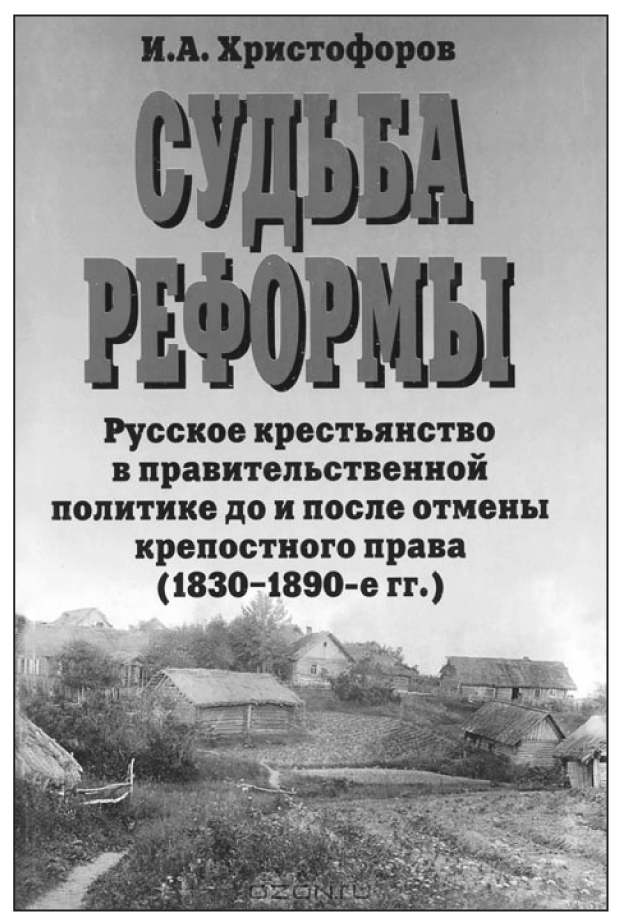
Стоит ли об этом еще раз писать? — невольно задумается всякий, кто вплотную не сталкивался с проблематикой 1861 года. Книга на сей счет дает вполне определенный ответ: несмотря на многочисленные и часто весьма основательные исследования, наши знания о крестьянской реформе очень фрагментарны и порой даже поверхностны. Мы находимся во власти стереотипов, появившихся в разное время и успешно наслоившихся друг на друга.
Собственно с разоблачений стереотипов и начинает Христофоров. Он предлагает по-новому взглянуть на русскую деревню, обратившись к исследованиям последнего времени, а не к мифологемам XIX века. Так, до сих пор повторяется мысль о фундаментальном значении передельной общины. Вместе с тем большая часть крестьянских земель переделам не подлежала. Наделы в основе своей закреплялись за семьей, и лишь незначительная их часть распределялась в зависимости от числа налогоплательщиков в домохозяйстве.
Кроме того, помещичьи имения часто нам представляются хоть и небольшими, но все же своего рода княжествами-латифундиями в пределах ясно очерченных границ. Однако в действительности угодья соседствовавших помещиков располагались в шахматном порядке, и далеко не всегда было ясно, где между ними проходит граница.
Помещики вроде бы были «даровыми полицейскими», хотя бы в силу личной выгоды следившими за своими крестьянами и таким образом служившими интересам государства. На практике все было совсем не так: многочисленные служащие вотчинной администрации непосредственно сносились с агентами правительства, а землевладельцы часто в подобные дела не вмешивались.
Эти и многие другие стереотипы, характерные для современных исследователей, воспроизводят мифы 1840—1860 годов, бытовавшие среди высшей бюрократии, не многое знавшей о том, что в действительности происходит в деревне. Правительство, не смирившись с недостатком информации, конечно, не сидело сложа руки и пыталось наверстать упущенное предшественниками. Программу разрешения этого вопроса можно свести к одной идее: кадастр всей недвижимости, и прежде всего земли, который позволил бы с определенностью говорить о частной собственности в России и, соответственно, о возможной налоговой реформе. Однако создание детального реестра на практике оказалось невыполнимым: проблема была слишком велика для неподготовленного бюрократического персонала. В итоге пришлось довольствоваться полумерами, в сущности оставаясь в неведении о характере социальных процессов, происходящих в деревне.
Таинственную крестьянскую Россию столичная бюрократия населяла мифами. Причем поскольку чиновники по своим взглядам и жизненному опыту существенно отличались друг от друга, то и мифы, которым они давали жизнь, были разными. Нередко сложившиеся в их головах конструкты мирно уживались друг с другом. Тогда возникали невиданные чудовища, с которыми и шла борьба в ходе Великой реформы.
С одной стороны, правительство пыталось минимизировать непосредственное участие бюрократии в реализации преобразований, памятуя неудачи «дирижистской» политики николаевского царствования. С другой — оно не считало возможным оставлять крестьян без опеки многоопытной администрации. Эти, казалось бы, противоположные подходы не всегда конкурировали, а иногда сочетались, создавая неразрешимые противоречия для последующих поколений управленцев.
Таким образом, рационально мыслящая бюрократия, вторгаясь в малоизвестный крестьянский мир, отнюдь не способствовала его рационализации, а, напротив, расширяла «сферу неопределенности». Пытаясь ответить на остро стоявшие вопросы, она способствовала тому, что их появлялось еще больше, что невольно формировало повестку дня последующих десятилетий. Российских чиновников можно сравнить с мудрецами из старой восточной притчи, в темноте ощупывающими слона и пытающимися понять, как выглядит загадочное животное. При этом легендарные старцы существенно расходились в выводах, в то время как отечественные бюрократы 1850-х годов, точно так же не имея представления о целом, тем не менее с успехом приходили к консенсусу.
В итоге сфера «недоговоренности» стала своего рода фундаментом преобразований, определяя тактику и стратегию Редакционных комиссий. Жаль, что ключевые вопросы, связанные с этапами непосредственной подготовки крестьянской реформы, специально автором не рассматриваются (по той уважительной причине, что данные сюжеты уже давно получили «каноническое» освещение в хрестоматийных работах). Этот, казалось бы, вполне оправданный подход создает неожиданный «литературный эффект», вполне соответствующий поэтике постмодернизма. Из книги «изымается» главный герой — реформа. О ней говорят, к ней готовятся, ее плоды пожинают, иногда она мельком пробегает вдали, но внимательно рассмотреть ее на страницах монографии Христофорова едва ли получится. Конечно, читая эту книгу, можно держать под рукой труды тридцати-сорокалетней давности. Но они написаны совсем в другом жанре и очень далеки от подходов данного сочинения. Все же кажется, что реформа предстала бы читателю совсем иной, если бы ей нашлось соответствующее место в рецензируемой монографии.
Судьба реформы неразрывно связана с судьбой реформаторов. Она созревает вместе с теми, кто будет ее проводить. Их биографии, жизненный опыт, образование, мировоззренческие установки многое предрешат в ходе преобразований. Большинство исследователей лишь скороговоркой характеризуют «лабораторию идей», в которой рождались концепции и оттачивались подходы. Это замечание не относится к данной монографии. Христофоров немало пишет об осмыслении крестьянского вопроса в годы царствования Николая I, на которые пришлась юность многих реформаторов 1860-х годов. Значение этого сюжета обуславливается хотя бы тем, что вторая четверть XIX столетия — до сих пор terra incognita для отечественной историографии. Вступая на эту неизведанную землю, исследователь должен быть готов к разным неожиданностям.
Николаевская эпоха стала временем противоречивых тенденций, которые нельзя свести к попыткам тотального дирижизма. Это еще и время, когда высшая бюрократия чувствовала весьма ограниченные пределы эффективности действий власти. В декабре 1845 года видный член Государственного совета, а в недалеком прошлом государственный секретарь М. А. Корф на страницах своего дневника обрушился на проект главноуправляющего II Отделением Собственной Его Императорского Величества Канцелярии Д. Н. Блудова, предусматривавший ограничение права помещика наказывать своих крестьян (с точки зрения Блудова, крестьяне не могли получать более 40 ударов палками или розгами). Корф ожидал от этой весьма гуманной меры больших несчастий. Едва ли можно было полагаться, что помещики станут соблюдать эту норму. Вместе с тем она неизбежно стала бы широко известной в крестьянской среде, в которой трактовалась бы отнюдь не буквально. Крепостные воспротивились бы любому телесному наказанию, без которого все помещичье хозяйство было бы дезорганизовано[1].
Не стоит реформировать то, что можно оставить незыблемым, — поучал молодого императора Николая I многомудрый Николай Михайлович Карамзин[2]. Казалось бы, твердая и не сомневающаяся в себе верховная власть не верила в возможность радикального решения крестьянского вопроса, даже если речь шла об отдельных аспектах этой проблемы. В феврале 1844 года на совещании о положении дворовых людей Николай I объяснял своим ближайшим сотрудникам: «Я никогда не решусь покол того, что... или временем или обычаем обращено в право помещиков. Скажу более, здесь между нами, я не считаю себя на это вправе. Между тем, я ли, он ли (указав на наследника) или, может статься, даже его дети, а мы непременно должны прийти к уничтожению дворовых людей, если хотим, чтобы Россия оставалась тем же, что она есть. Но прийти к этому, пока существует крепостное право, можно только постепенно, отнюдь не вдруг, мерами переходными, избегая всего, что могло бы иметь вид прикосновения к правам собственности, чтоб не впасть в другую крайность»[3].
В этом был парадокс реформ нового времени. Упрочение института частной собственности, что вроде бы свидетельствовало о наступлении эпохи модерна, существенным образом препятствовало разрешению крестьянского вопроса. Крепостное право, порождение служилого государства, в обществе нового времени обретало неизгладимые черты рабства. Правительство же не знало, как подступиться к проблеме, не нарушив священных прав владельцев. В итоге, взяв курс на упразднение крепостного права, оно с неизбежностью преступило их, предпочтя модернизационный прорыв неприкосновенности института частной собственности. 1861 год стал временем триумфа бюрократического государства, сломившего всякое (преимущественно весьма вялое) сопротивление землевладельцев. Последние отступили, но ничего не забыли, надеясь воздать должное «красной» (как тогда говорили) бюрократии. Именно в помещичьей среде заговорили о конституции, там зарождалась фронда, получившая организационное оформление в виде земского движения, представители аристократии (Шереметевы, Бобринские, Долгоруковы, Шаховские, Голицыны, Волконские и др.) стояли у истоков первых политических партий, финансировали нелегальные издания.
Проблема собственности — коренной узел земельного вопроса в России, который власть боялась разрубить, предпочитая аккуратно распутывать и таким образом запутывая еще и еще. Как раз этот клубок противоречий пыталось разорвать правительство Столыпина, сталкиваясь с оппозицией и слева и справа. Никто не радовался приходу модерна в русскую деревню.
Монография Игоря Анатольевича Христофорова позволяет по-новому взглянуть на реформы в России, отказавшись от традиционных прогрессистских построений. В данном случае правительственное преобразование — не шаг вперед или назад, а шаг в сторону — в рамках той многомерной системы координат, которой пользовались современники тех событий. Реформа — это не только взрыв, сокрушающий действительность, это еще и долгий путь, со своими изгибами, перекрестками, поворотами. За время этого пути меняется сама реформа, меняются реформаторы, их жизненные приоритеты, старые смыслы обрастают новыми значениями. В этом судьба реформы 1861 года, как, впрочем, и всякой другой.
[1] ГАРФ. Ф. 728, оп. 1, д. 1817, ч. 8, л. 275—276.
[2] Олейников Д. И. Николай I. М., 2012. С. 82.
[3] ГАРФ. Ф. 728, оп. 1, д. 1817, ч. 7, л. 155.