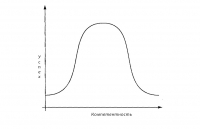Отрывок книги (продолжение1)
Фрагментарные медитации о творчестве Иеронимуса Босха. Тбилиси, 2008
 Начнем с последнего варианта «Несения креста» Иеронимусa Босха (1515-1516 годы). Окруженный возбужденными людьми Спаситель в центре картины. Он как будто спит, хотя это, конечно, не сон. Это способность к бытности в иной метафизической среде. Это спокойное погружение в ту обитель, где его не достанет боль возложения тернового венца либо истязаний (как символов предельной профанной неудачи). Он напоминает утомленного невезучестью и страданием простодушного мечтателя, жаждущего обитать в освещенном солнцем далеком мире облаков – там, где мир иного смысла, иного бытия. В насыщенной гротескными образами атмосфере – особенно в эпоху Босха – это «иное» преимущественно пытаются описать метафорами сна или смерти, двумя универсальными метафорами обители духа. Часто именно этими двумя метафорами отмечается преодоление метафизической межи на пути от профанного к сакральному2. Это «иное» пространство и не может быть описано по другому, когда душа находится в окружении тех уродливых масок, которые путем беспощадного насилия над собой отождествляют власть с метафизической компетенцией; а зло с дурковатостью и безумством — ведь это ничто иное, как попытка найти тождество там, где его не может быть. В этом мире глупость и зло синонимы. Ведь зло чаще всего надевает маску дурковатости. Именно это является самой искусной и замаскированной формой его притворства, поскольку глупость и создает то пространство, в котором зло распускает свои метастазы, обосновывается и порождает хаос тех масок, которые душа сама выделила из себя в поле напряженности, как оставленный на своем пути след.
Начнем с последнего варианта «Несения креста» Иеронимусa Босха (1515-1516 годы). Окруженный возбужденными людьми Спаситель в центре картины. Он как будто спит, хотя это, конечно, не сон. Это способность к бытности в иной метафизической среде. Это спокойное погружение в ту обитель, где его не достанет боль возложения тернового венца либо истязаний (как символов предельной профанной неудачи). Он напоминает утомленного невезучестью и страданием простодушного мечтателя, жаждущего обитать в освещенном солнцем далеком мире облаков – там, где мир иного смысла, иного бытия. В насыщенной гротескными образами атмосфере – особенно в эпоху Босха – это «иное» преимущественно пытаются описать метафорами сна или смерти, двумя универсальными метафорами обители духа. Часто именно этими двумя метафорами отмечается преодоление метафизической межи на пути от профанного к сакральному2. Это «иное» пространство и не может быть описано по другому, когда душа находится в окружении тех уродливых масок, которые путем беспощадного насилия над собой отождествляют власть с метафизической компетенцией; а зло с дурковатостью и безумством — ведь это ничто иное, как попытка найти тождество там, где его не может быть. В этом мире глупость и зло синонимы. Ведь зло чаще всего надевает маску дурковатости. Именно это является самой искусной и замаскированной формой его притворства, поскольку глупость и создает то пространство, в котором зло распускает свои метастазы, обосновывается и порождает хаос тех масок, которые душа сама выделила из себя в поле напряженности, как оставленный на своем пути след.
Так оказываются вокруг души безумные образы, более похожие на тех демонов, которых она должна разбить вдребезги, если и вправду желает обрести бытие и вернуться домой, в обитель3. На этой картине полярности драматично отдалены друг от друга. На одном полюсе «леса скелетов и безумных образов» (Г.Табидзе), на другом – носитель Креста. С одной стороны – речь на языке книжников и фарисеев; с другой – радикальное отрицание идеи власти и вещание на языке, который в лингвистике этих последних описывается как язык сна или смерти.
Этим мы обрисовали тот контур, тот магический круг, в пределах которого нам придется передвигаться.
Приостановимся на уже упомянутом понятии успеха. В нашем случае это то понятие, которое позволяет хотя бы в первом приближении выстроить параллельную движению Босха траекторию. Начнем с каждодневного, профанного значения этого понятия. Я корректирую свою жизнь по тем образцам, которые когда-либо приносили мне успех. Этим успех, как невидимый диктатор, руководит созданием моего социального портрета, той общности архетипов поведения (по Мирче Элиаде), которой я пытаюсь демонстрировать себя в социальной среде. Отсюда остается всего лишь шаг до вывода, что моим успехом создается та субстанция и система символов, посредством которой моя судьба вещает и ткет мой путь. С определенного момента я и сам ощущаю себя включенным в эту деятельность и поэтому меня преследует чувство, будто этот путь ткет вместе со мной еще кто-то. В этом смысле успех – это строящая меня, как социализированную персону система символов, образов и ориентиров.
Так выстраивается динамическая картина архетипов поведения, которая приобретает для меня значение своего рода магического ритуала, и в этом смысле я ничем не отличаюсь от дикаря, который перед охотой заранее в магическом танце разыгрывает будущую сцену и лишь затем направляется в лес. Чем больше эмоциональный заряд успеха, тем выше моя верность соответствующей архетипной системе поведения. Мое существование переходит в режим диалога с системой собственных успехов и становится все более детерминированным; как было сказано, динамическая система архетипов поведения приобретает значение своего рода магического ритуала. Отсюда должно быть понятно, почему бывает трудно взрослому человеку менять образ своего поведения. Это потребовало бы от него отказа от своего внутреннего мира, некоего сакрального обряда, поприща богослужения, потребовало бы, чтобы он осудил тот символ веры, который трепетно выстроил в диалоге с бытием. И это продолжается до того мгновения, пока он не почувствует, от скольких измерений свободы он отказался на своем пути. Боль из-за неиспользованных путей просыпается позднее – вместе с ожиданием смерти.
Именно это должно означать наступление старости. Она приходит не тогда, когда изношенное тело отказывается от исполнения своих желаний, а тогда, когда в один прекрасный день осмыслишь, насколько я больше самого себя и в гонке за социальным успехом насколько сузил самого себя, сфокусировав его до приносящей успех социальной маски. Позволю себе описать пограничными терминами знание, которое может рождается в это мгновение: пробуждается знание того, что, оказывается, главный критерий успеха — смерть как «обитель истины», сосуществование с идеей собственной смерти, благодаря которой зазвучат молчавшие до сих пор пласты сознания и укажут мне на перспективы иной бытности. Оказывается, несмотря на описанные архетипы поведения, к этой точке меня непрерывно вели два путеводителя: постоянный тайный диалог с самим собой о смерти и судьба, главной заботой которой как будто является как раз то, чтобы я завершил строительство обители для своего духа и в этом смысле умер своей смертью, как причащенный к успеху иного рода.
Этим уже в первом приближении наметился рельеф вышеупомянутого поля напряжения. Следующим шагом будет вспоминание кантовского различия между легальностью и моральностью, которое имеет фундаментальное значение для описания контекстуальности персоны. Легальность описывает успех в социально-культурной среде – способность персоны, быть контекстуальным и приемлемым для этой среды, или, говоря на моралистическом языке, порядочным. Моральность претендует на верность универсальным ценностям, универсальному пути и рассматривает легальность, как социально-культурную симуляцию самого себя. В свете этих понятий вышесказанное означает, что персона движется между двумя этими возможностями, между двумя измерениями своего сознания и таким образом строит не только свою ситуационность, но также и то, что можно назвать социально-культурной тканью. В этом смысле каждая культура и каждая персональность раздвоена, и перед ней постоянно существуют полярности моральности и легальности, которые мы в начале назвали сакральным и профанным. Скажем больше, и персона, и культура экзистируют постольку, поскольку они помещены в поле напряжения этой биполярности.
 Еще одним возможным описанием может быть описание этого поля, как дихотомии правды и истины. Вспомним, что Освальд Шпенглер в «Закате Европы» упоминает встречу Спасителя и Пилата Понтийского, как встречу истины и правды. Друг с другом встречаются социально-культурная правда, земное владычество, которое через сакрализацию закона овладевает историческим пространством и, с другой стороны – некто, рожденный в лоне богоищущего еврейского племени, носитель экстатического ощущения истины. Заранее скажу, что именно такая встреча является тем пунктом истории, который должен породить новый ряд социально-культурных симуляций. Предельная напряженность встречи неизбежно разряжается в акте распятия. Как бы ни убеждал себя Пилат, что Иисус — гражданин другого мира и для социально-культурной тотальности безвреден, не может быть, чтобы он не чувствовал, что перед ним тот, чья социально-культурная артикуляция, если представим себе такую возможность, означает крушение именно римских парадигм и культурных измерений. Поэтому он лишь имитирует, что противится распятию, он лишь притворяется, что для его мира Иисус — всего лишь достойное сочувствия явление внутриеврейских религиозных противостояний и по закону Рима невиновен. И он вооружается апатией и пассивностью, которые в той реальной обстановке представляют социально-культурное орудие изгнания Иисуса. Иисус должен быть изгнан из того онтологического разреза вселенной, который выстраивает Римский закон.
Еще одним возможным описанием может быть описание этого поля, как дихотомии правды и истины. Вспомним, что Освальд Шпенглер в «Закате Европы» упоминает встречу Спасителя и Пилата Понтийского, как встречу истины и правды. Друг с другом встречаются социально-культурная правда, земное владычество, которое через сакрализацию закона овладевает историческим пространством и, с другой стороны – некто, рожденный в лоне богоищущего еврейского племени, носитель экстатического ощущения истины. Заранее скажу, что именно такая встреча является тем пунктом истории, который должен породить новый ряд социально-культурных симуляций. Предельная напряженность встречи неизбежно разряжается в акте распятия. Как бы ни убеждал себя Пилат, что Иисус — гражданин другого мира и для социально-культурной тотальности безвреден, не может быть, чтобы он не чувствовал, что перед ним тот, чья социально-культурная артикуляция, если представим себе такую возможность, означает крушение именно римских парадигм и культурных измерений. Поэтому он лишь имитирует, что противится распятию, он лишь притворяется, что для его мира Иисус — всего лишь достойное сочувствия явление внутриеврейских религиозных противостояний и по закону Рима невиновен. И он вооружается апатией и пассивностью, которые в той реальной обстановке представляют социально-культурное орудие изгнания Иисуса. Иисус должен быть изгнан из того онтологического разреза вселенной, который выстраивает Римский закон.
 Подобная встреча-изгнание определяет конституцию всей последующей истории или биографии отдельной личности тем, что артикулируется в новую социально-культурную правду – думается, история христианства, как социального института, является лучшим выражением этого. Ведь она почти полностью строилась и все еще строится на подобной встрече-изгнании.
Подобная встреча-изгнание определяет конституцию всей последующей истории или биографии отдельной личности тем, что артикулируется в новую социально-культурную правду – думается, история христианства, как социального института, является лучшим выражением этого. Ведь она почти полностью строилась и все еще строится на подобной встрече-изгнании.
Итак, Иисус изгнан. В этом смысле он безуспешен.
Существует одна статистическая интерпретация подобной встречи-изгнания, данная полностью в профанном дискурсе, хотя она для нас весьма важна, так как в ней говорится как раз о социо-культурном успехе, и она указывает на упомянутую межу4. В ней с невероятной, присущей математике однозначной прямотой видно то, чего мы коснулись выше5. Американские ученые попытались путем опроса экспертов тех или иных отраслей установить, какое отношение может существовать между компетенцией и социальным успехом. Накопив уйму статистического материала, они получили кривую, которую в математике, если не ошибаюсь, называют нормальным распределением.
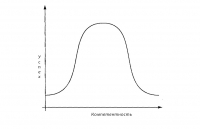 Согласно кривой, самыми успешными являются люди средней компетенции, то есть те, кто может на среднем будничном и, тем самым,– универсальном социальном языке выразить себя. Успеха лишены совершенно некомпетентные и сверхкомпетентные люди. Средняя компетенция – это имманентная лингвистика социально-культурной среды, это продукт того социально-культурного компромисса, который использует носителя средней компетенции в качестве своего инструмента. Отсюда рождается характерный и органичный для социально-культурной среды тоталитаризм, который называют диктатурой Man-а. Подобная среда существует настолько, насколько ее полностью покрывает тотальность средней каждодневности души. Носитель высшей компетенции для нее принципиально а-инструментален и неконтекстуален. Если попытаемся проследить за тем, что происходит за сверхкомпетенцией, если попытаемся поместить эту неопределенность в контекст изображенной в графике социальной стихии, надо предположить, что асоциальность (как в смысле высшей компетентности, так и в смысле крайней некомпетентности) трансформируется в криминальность, что в радикальных случаях проявляется в кровавом или бескровном остракизме, с одной стороны, Сократа, Иисуса или того же Мераба Мамардашвили и др., а с другой – уголовных преступников. Тот, кто не умещается в рамках социально-культурной правды, сам изгоняет себя, а если нет, его изгонят, чтобы не нарушилась гармония социо-культурной ткани.
Согласно кривой, самыми успешными являются люди средней компетенции, то есть те, кто может на среднем будничном и, тем самым,– универсальном социальном языке выразить себя. Успеха лишены совершенно некомпетентные и сверхкомпетентные люди. Средняя компетенция – это имманентная лингвистика социально-культурной среды, это продукт того социально-культурного компромисса, который использует носителя средней компетенции в качестве своего инструмента. Отсюда рождается характерный и органичный для социально-культурной среды тоталитаризм, который называют диктатурой Man-а. Подобная среда существует настолько, насколько ее полностью покрывает тотальность средней каждодневности души. Носитель высшей компетенции для нее принципиально а-инструментален и неконтекстуален. Если попытаемся проследить за тем, что происходит за сверхкомпетенцией, если попытаемся поместить эту неопределенность в контекст изображенной в графике социальной стихии, надо предположить, что асоциальность (как в смысле высшей компетентности, так и в смысле крайней некомпетентности) трансформируется в криминальность, что в радикальных случаях проявляется в кровавом или бескровном остракизме, с одной стороны, Сократа, Иисуса или того же Мераба Мамардашвили и др., а с другой – уголовных преступников. Тот, кто не умещается в рамках социально-культурной правды, сам изгоняет себя, а если нет, его изгонят, чтобы не нарушилась гармония социо-культурной ткани.
Подобное изгнание ничто иное, как подтверждение социального поражения, так как социальный успех имеет свой критерий: вещание на общесанкцированном и универсальном языке. В этом дискурсе успех понимается как владение таким языком, даже если с точки зрения моральности он уродлив, как, скажем, роскошное кладбище или многообразные, часто утонченные формы торга грешников с Богом: построенная вором церковь, регулярно раздаваемая мошенником милостыня и др. Социальный организм всеми способами противится вносящему беспокойство. Он одинаково изгоняет сверкомпетентное и некомпетентное, так как и в одном, и в другом видит один общий признак, как было уже сказано, а-инструментальность и неконтекстуальность. В этом смысле для него Иисус и Варрава явления одного порядка, хотя первый из них становится сверхуспешным именно после изгнания.
 Это тоже одна из тайн социального тела. Подобной тенденцией оно как бы проявляет скрытое стремление к самоубийству, а Иисус становится инструментом того, чтобы культура разрушением собственной ткани спасла себя и высвободила новые измерения существования путем мгновенного избавления от рамок вышеописанной диаграммы, как говорит Мартин Бубер, путем мгновенной встречи и диалога с тотальностью бытия. В итоге, в конструированном по-новому поле напряжения вяжется новая социально-лингвистическая ткань. А этим, посредством нового перевода на социально-культурном языке сверхуспешного Иисуса, его готовят к повторной смерти. Это история, во всяком случае, одна из ее важнейших динамических сил.
Это тоже одна из тайн социального тела. Подобной тенденцией оно как бы проявляет скрытое стремление к самоубийству, а Иисус становится инструментом того, чтобы культура разрушением собственной ткани спасла себя и высвободила новые измерения существования путем мгновенного избавления от рамок вышеописанной диаграммы, как говорит Мартин Бубер, путем мгновенной встречи и диалога с тотальностью бытия. В итоге, в конструированном по-новому поле напряжения вяжется новая социально-лингвистическая ткань. А этим, посредством нового перевода на социально-культурном языке сверхуспешного Иисуса, его готовят к повторной смерти. Это история, во всяком случае, одна из ее важнейших динамических сил.
Весь секрет профанного успеха, передаваемый в основном в терминах власти, описывается вышеприведенной математической кривой. В этом пункте «успех» и «власть» начинают идти рука об руку. Именно участие в дискурсе власти рождает наибольшее впечатление приближенности к высшей метафизической компетенции, так как, по профанному представлению, субстанцией, вяжущей силой, конституцией этой компетенции является именно власть.
Разумеется, существуют и другие субстанции, которыми конструируется метафизическая компетенция: эрудиция, богатство и другие, но в конечном итоге в профанном мире, построенном на ткани идеи власти и эрудиция, и богатство являются всего лишь средствами власти. Если в «Несении креста» такую профанно конструированную власть олицетворяет ветхозаветное духовное лицо, то позднее, в картине «Перевозка сена», тот же персонаж предстает в одеянии папы. Это персонаж, который может явиться нам в многообразии форм, как только мы откажемся от главнейшего достоинства человека – способности правдивого и честного мышления (М. Мамардашвили) - и, подобно другим клонам духовности, насытит нашу атмосферу, как один из центральных случаев этого вечного клонирования. Интересно, что оба варианта этого персонажа движутся слева направо. Наверно, это направление олицетворяет для Босха движение от инфантильно-профанного бывания к тотальности бытия, к вечной ответственности профанного мира перед сакральным.
Находящийся в поле власти человек сводит свое многообразие до одной конкретной маски и движется в ее пределах. Эту маску мы уже описали как систему архетипов успешного поведения или освоенную персоной социальную лингвистику. И этим она, персона, становится похожа на собственную карикатуру. Чем больше азарт борьбы за власть, тем преданнее персона этой маске-формуле, защищает ее как носителя сакральных действий, которыми должны быть вызваны демоны, исполняющие ее чаяния. Она смотрит на формулу как на первопринцип адаптации с бытием, как прямое и непосредственное выражение собственной высшей персональности, которая должна подчинить ряд явлений ее воле. Когда движущийся в поле власти человек беспощаден, когда он мошенничает, плетет интриги, ведет себя с людьми, как жрец, когда движения его становятся замедленными, приобретают оттенок наигранного достоинства и др. и др., он в это время не морален или аморален, а полностью заперт в цикле этой магической маски-ритуала. Повторяем, чем больше азарт, чем с большей архисерьезностью движется персона в этом дискурсе, тем с большей точностью она повторяет эту раз и навсегда сформированную маску-метод, суживает все свое существо до этой маски и тем более лабильным и инструментальным становится ее «Я», ее личностность.
Вспомните смягченную (а не мягкую) руку власть имущего, протянутую подданному: это не рукопожатие, это, скорее, квазирелигиозное причащение к осколку поля власти ненаходящегомуся в этом поле, это милость-приветствие, и за ним реципиент должен почувствовать грозное звучание гнева, жестокости, милости, в общем, метафизической строптивости власти.
 Вот поэтому властитель – гротескная маска Всевышнего на земле, и чем больше пребывание в поле власти меняет его личностную конституцию, тем гротескнее этот гротеск. Ведь имитация Бога, представление самого себя клоном метафизического мира во всех случаях является гротеском.
Вот поэтому властитель – гротескная маска Всевышнего на земле, и чем больше пребывание в поле власти меняет его личностную конституцию, тем гротескнее этот гротеск. Ведь имитация Бога, представление самого себя клоном метафизического мира во всех случаях является гротеском.
Попасть в это пространство равносильно приобретению некого подобия метафизической компетенции — своего рода псевдотрансцендирования, которое полностью остается в пределах социокультурной ткани. Власть имеющий — царь мира сего, в отличие от того, кто не строит свое царствование из субстанции земной власти и тем самым остается неконтекстуальным. Границы между властителем и Всевышним разрушаются, более того, после ницшеанской смерти Бога его заменяет пребывающая в ощущении собственной бесконечности персона6 в положении сплетенного идеей власти магически-религиозного экстаза. Это пространство магических истин, иллюзия расширения собственной бытности до метафизических пределов. Это повернутое к самому себе богослужение, в котором богоискательство происходит полностью в пределах маски-ритуала и именно поэтому так дорого для любого – дороже, чем для визионера секунды мистического переживания или для подвизавшегося в политике момент ощущения того, что он соучастник высшей космогонии и именно этим подтверждается его личная значимость; как для религиозного человека – минуты, когда он всем своим существом чувствуешь любовь к Богу; или для влюбленного четырнадцатилетнего парнишки тот миг, когда он осмыслит, что его открыли и признали. И первый, и второй, и все остальные – продукты веры в причащение к сфере высших значений. И властитель тоже гражданин этой сферы, в том смысле, что высшие значения рождаются полностью в рамках его маски-ритуала.
 Как показывает вышеприведенная диаграмма, власть, как функция социального успеха, является сферой опосредованной души. Посредственность, доведение самого себя до своего рода общего знаменателя – часть происходящего здесь магического ритуала. Конструирование вертикали власти происходит странно. Ищущая свою верховную сущность, персона взамен реального вхождения в сферу власти начинает имитировать некую абстрактную персональность: другого, по его мнению, достойного подражания носителя власти или собственной маски, которая ничто иное, как хождение ее верховного «Я» по земле, или начинает имитировать демиурга и т.д. Ведь с какого-то момента своей биографии она существует только на высоте космогонического акта, положившему начало времени Оно космического значения.
Как показывает вышеприведенная диаграмма, власть, как функция социального успеха, является сферой опосредованной души. Посредственность, доведение самого себя до своего рода общего знаменателя – часть происходящего здесь магического ритуала. Конструирование вертикали власти происходит странно. Ищущая свою верховную сущность, персона взамен реального вхождения в сферу власти начинает имитировать некую абстрактную персональность: другого, по его мнению, достойного подражания носителя власти или собственной маски, которая ничто иное, как хождение ее верховного «Я» по земле, или начинает имитировать демиурга и т.д. Ведь с какого-то момента своей биографии она существует только на высоте космогонического акта, положившему начало времени Оно космического значения.
Существуют и более парадоксальные формы имитации, скажем, имитирование верховного властителя его секретарем или составителем текстов выступлений. Последний, наверно, является самым характерным: каждодневно он создает десятки страниц и это для него вдохновенный труд, главнейшая возможность манифестирования своего полного значения перед вселенной. Он пишет и создает так, как если бы был Им. Скажем больше, сам Он только благодаря ему является тем, что представляет нам автор текстов. Ведь Он тоже имитирует его при чтении этих текстов, и они встречаются друг с другом в акте конструирования странного, двуликого демиурга. И дух успеха полностью растворяется в этом акте создания демиурга.
Виктор Франкл в своем письме «Психолог в концентрационном лагере» пишет: «Самым обидным для попавших туда людей было то, что им не суждено было умереть своей смертью» Он не разъясняет этот смысловой пассаж, похоже, пытается апеллировать к инстинкту истины читателя. Оказывается, Наполеон имел такую привычку: прикладывал орден к груди отличившегося офицера и отпускал руку —и в тот же миг руки десяток офицеров пытались подхватить орден. В этом месте Франкл невольно сделал наполеоновский ход. Это высказывание в нашем случае тоже порождает определенный резонанс и для нас оно обязательно для понимания обратной стороны идеи успеха.
Говорят, среди индейцев Центральной Америки была распространена похожая на баскетбол игра. Победителей жертвовали богам. Соревнующийся побеждал затем, чтобы быть пожертвованным. В большинстве известных нам культур в жертву приносили побежденного. И в рыцарской культуре поражение в поединке означало экзистенциальное поражение – то, что рыцарь не смог доказать свою правоту в бою. А тут мы имеем совершенно другое: игрок доказывает свой успех именно добыванием права на смерть, доказывает, что умирает своей смертью и что смог выполнить то, что он должен был выполнить. Победа в соревновании для него лишь божий знак сего. Точно так же, для мусульманского террориста взорвать себя означает, что Аллах принял его жертву, и он умирает своей смертью. Хотя приобретению права на подобную смерть не предшествует соревнование. В этом случае совершенный акт является частью той космической войны, которая идет между арабским и еврейским мирами и в которой, согласно основным парадигмам этой войны, другие вовлечены лишь в роли сценического реквизита.
Так что для индейца успех заключался в приобретении права на смерть. Подобное инструментальное отношение к смерти придает успеху совершенно чуждое для нашего сознания значение. Это та точка, в которой парализуются наши социо-культурные парадигмы. В случае рыцарской культуры мотив более-менее понятен, он как будто перекликается с нашими детскими представлениями, а еще больше, с нашей же наивной религиозностью: здесь смерть – с одной стороны, это наказание за ложь или грех, и рыцарь должен предстать перед универсальным судьей со своими победами. Это и есть критерий успеха: ты, как носящее божественный свет существо, успешен настолько, насколько способен предоставить рыцарскому поединку судить о пройденном тобой пути. Поединок та «небесная сеть», в которую пройдут только праведные. С другой стороны, Право умереть своей смертью рыцарь должен добыть путем посвящения себя возвышенной идее, что в лучшем случае, должно произойти на поле боя. Именно это станет его экзистенциальным успехом, который определит содержание социального успеха той культуры. А путь, ведущий к нему – это верность идее успеха, которая окутана радикальным ощущением ожидания смерти.
Так создается метафизический рельеф в свете сознания смерти. Можно сказать, что он по отношению к смерти является одновременно способностью и плодом, и в созданном им экзальтированном ожидании смерти разрушается всякий комфорт. Более того, с остервенением святого или визионера это ожидание борется со всем, что только может посягнуть на этот рельеф и мстить профанному миру тем, что ставит вверх ногами категорию успеха: «Многие же будут первые последними, и последние первыми». (от Матфея.19.30) Наконец, можно сказать, что профанное существует благодаря аннулированию сакрального и наоборот, и, поскольку такое аннулирование невозможно, становится неотвратимым существование поля напряженности.
 Так распалось поле напряжения на социальный и метафизический рельефы. Если категориальная система социального рельефа, так или иначе, однородна, непротиворечива и открывает перед сознанием гомогенное пространство для движения, метафизический рельеф своей системой ценностей и иерархией значений создает разнообразность, в которой человек передвигается, спотыкаясь и задерживаясь. Если основой топологии первого является шкала условностей рекламных масок7, второе определяется экстатичным переживанием значений, основанных на системе ценностей.
Так распалось поле напряжения на социальный и метафизический рельефы. Если категориальная система социального рельефа, так или иначе, однородна, непротиворечива и открывает перед сознанием гомогенное пространство для движения, метафизический рельеф своей системой ценностей и иерархией значений создает разнообразность, в которой человек передвигается, спотыкаясь и задерживаясь. Если основой топологии первого является шкала условностей рекламных масок7, второе определяется экстатичным переживанием значений, основанных на системе ценностей.
В первом либерализм означает беспрепятственную свободу движения в бесрельефном, гомогенном пространстве, а во втором – способность осознать точки перспективной глубины рельефа и проектировать движение исходя из этого. Если для первого добром является именно гомогенность пространства, предназначенного для движения, для второго гомогенность – это зло, пытающееся прикрыть спрятанные в топографии вулканы и гейзеры. Если первый по причине неизбежного морализирования первичным моральным принципом выбирает права человека, что является ничем иным, как опосредованием значений и ценностей и отрицанием их перспективной бесконечности, а замена истины, как первоначала, искажающего гомогенность той правдой, которую одно разумное существо передает второму, второе – третьему, в процессе этой передачи происходит корректировка переданного и его доведение до общего знаменателя, который в наше время должен создать тотальность коллективного описания вселенной и который называют единым информационным пространством (отрезок «успеха» на вышеприведенной диаграмме описывает как раз это пространство). Правда – это ничто иное, как унифицированная истина, мысль, подлежащая коммуникационным императивам информационного пространства, ставшая, согласно лучшим традициям энциклопедизма, всеобщим достоянием. Тут уже не имеется ничего такого, что могло бы внести смуту в идиллию всеобщего согласия; вытеснено все то, что способно указывать на наличие спрятанных за сознанием социальной топографии рельефа теологических ценностей, поскольку, как уже было сказано, даже сама религия покорена и включена в эту стихию «толков, любопытства и двусмысленности» (М. Хайдеггер).
На первый взгляд, подобное отрицание метафизического рельефа нетрудно; тем самым, мы смогли бы облегчить себе жизнь, если бы не смерть, каждое прикосновение к памяти которой снова пробуждает ее. Современная культура строится на архитектоническом изначальном принципе радикального отрицания смерти. Это было видно уже в первых бюргерных утопиях, где идея преодоления смерти играла ведущую роль, и она видна в сегодняшней чрезвычайно животрепещущей утопии, указывающей, что наука может превратить время в инструментальный и управляемый феномен. Для того чтобы получить тоталитаризм социального рельефа (правильнее будет сказать, безрельефности), – пытающийся захватить сегодня власть, – ведь этот феномен первым долгом нужно описывать категориями власти — следовало бы если не забыть идею смерти вообще, то хотя бы проще к ней относиться, что и происходит беспрерывно, на каждом шагу, и если какой-либо процесс определяет жизнедеятельность современного мира, то это именно он. Информация в его пределах приобрела демиургальные измерения. Существует лишь то, что попадает в информационный поток, либо то, что порождается этим потоком, как его имманентный продукт. Лишь он определяет рождение, существование и смерть чего-либо. Из описания действительности он превратился сперва в параллельную, а потом в единственно возможную действительность. Свой путь он начал с инструментального значения летописца бытия или декоратора и, наконец, полностью заместил само бытие.
Спонтанно возникшие и собравшиеся вокруг какого-нибудь харизматического лидера религиозные группы в данной ситуации являются ничем иным, как попыткой возрождения метафизической рельефности, попыткой вновь обрести место на гомогенном пространстве информационного мира. Выступая альтернативой разрекламированной на Западе гражданской религии (ее еще называют системой согласия, построенной на основе идеологии либерализма и прав человека), они пытаются предложить нам новые метафизические рельефы и для этого часто прибегают к любым, зачастую крайне наивным формам синкретизма: в один теологический котел кидают иудейство, христианство, буддизм, иногда также языческие ритуалы и, чтобы быть приемлемыми для социально-культурной среды, сдабривают все это солью научных представлений. Таким образом, в их представлении атомная война превращается в символ судного дня и Армагеддона, а электромагнитное излучение – в оружие магического влияния и пр. Иначе говоря, эти религиозные движения ничто иное, как попытка изыскания в недрах постисторического мира на его же языке места для метафизики, ничто иное, как попытка заново переработать то, что является историческими остатками для постисторического мира. В стремлении вновь вернуть метафизический рельеф можно обнаружить еще один признак современного мира: при их помощи оный будто специально создает карикатуру метафизического рельефа, чтобы изгнать из собственного тела его последние остатки.
 Еще раз и окончательно вернемся к полю предельного напряжения, созданному полюсами сакрального и профанного. Забудем на минуту, как оно может быть описано и обратим внимание на то, что оно может породить. На первый взгляд предельная напряженность может породить только предельную напряженность – к тому же направленную против первой. Таким образом, предельная напряженность является самоуничтожающей как раз тем, что, как говорит Бордийар, своей тотальностью не допускает «других» и всю энергию направляет против самой себя. Таким состоянием является известное для всех сумасшествие святых, когда в сознании находящейся на пределе личности пылает хаотичный пожар этих двух истоков, и она уже не может разобраться, где начинается один и кончается другой. Смешанные друг с другом сакральные и профанные символы заставляют личность, которая не может добыть равнодушную идентичность, пребывать в шизофреническом раздвоении. Это означает потерять то, что до сих пор считалось твоим обиталищем и раздвоенным, ошарашенным от пожара сознанием стараться выстроить новое. Картины Босха настолько нагружены такими персонажами, что приведение конкретного примера может иметь лишь условное значение. Достаточно вспомнить хотя бы те же мерцающие вокруг спасителя лица, изображенные на картине «Несение креста», выражающие всевозможные оттенки сумасшествия святых. Смерть для такого персонажа является лишь избавлением, и неважно, упокоится он после смерти в сакральном мире или нет. Смерть несет для него освобождение от раздвоения и предельной напряженности.
Еще раз и окончательно вернемся к полю предельного напряжения, созданному полюсами сакрального и профанного. Забудем на минуту, как оно может быть описано и обратим внимание на то, что оно может породить. На первый взгляд предельная напряженность может породить только предельную напряженность – к тому же направленную против первой. Таким образом, предельная напряженность является самоуничтожающей как раз тем, что, как говорит Бордийар, своей тотальностью не допускает «других» и всю энергию направляет против самой себя. Таким состоянием является известное для всех сумасшествие святых, когда в сознании находящейся на пределе личности пылает хаотичный пожар этих двух истоков, и она уже не может разобраться, где начинается один и кончается другой. Смешанные друг с другом сакральные и профанные символы заставляют личность, которая не может добыть равнодушную идентичность, пребывать в шизофреническом раздвоении. Это означает потерять то, что до сих пор считалось твоим обиталищем и раздвоенным, ошарашенным от пожара сознанием стараться выстроить новое. Картины Босха настолько нагружены такими персонажами, что приведение конкретного примера может иметь лишь условное значение. Достаточно вспомнить хотя бы те же мерцающие вокруг спасителя лица, изображенные на картине «Несение креста», выражающие всевозможные оттенки сумасшествия святых. Смерть для такого персонажа является лишь избавлением, и неважно, упокоится он после смерти в сакральном мире или нет. Смерть несет для него освобождение от раздвоения и предельной напряженности.
 Хотя есть и другой путь. Ведь в поле напряжения может, находится и то, что не станет более изъясняться на языке сакрального и профанного, не будет с полной архисерьезностью пытаться успешно перемещаться между ними, то, что тем самым объято полной свободой. Выражаясь условно, это описывается метафорами юродивого, ребенка либо джокера, как манифестации оживления в поле напряжения метафор сна или смерти. И тут вновь появляется одна ассоциация, навеянная Босхом – маленький Иисус с игрушкой в руке, обратная сторона «Несения креста», созданного в 1490 году. На этой картине не видны ни Богородица, ни плотник Иосиф, ни волхвы, которые пришли преклониться. Тут нет также сумасшедших лиц грешников и как будто снята вся тяжесть напряженности этих образов. Есть только ребенок с игрушкой в руке – изображение, которое благодаря драматургии цветов Босха не описывается ни бесконечной профанной любовью к жизни, ни играми ангелов. Это странное, трупного цвета изображение ребенка с таким же странным, отрешенным взглядом. Такова неожиданная метаморфоза поля напряжения у Босха, метаморфоза, из ткани которой не то чтобы не изгоняется успех, его там просто не существует. Это тот самый ребенок, которого излечивают в юности в картине Дюрера «Христос среди врачей» или у которого на старости лет из мозга извлекают цветок в «Извлечение камня безумия» Босха8. Это джокер, играющий даже в стихии игры и ставящий вверх ногами весь порядок, который выстраивается людскими усилиями в поле напряжения сакрального и профанного.
Хотя есть и другой путь. Ведь в поле напряжения может, находится и то, что не станет более изъясняться на языке сакрального и профанного, не будет с полной архисерьезностью пытаться успешно перемещаться между ними, то, что тем самым объято полной свободой. Выражаясь условно, это описывается метафорами юродивого, ребенка либо джокера, как манифестации оживления в поле напряжения метафор сна или смерти. И тут вновь появляется одна ассоциация, навеянная Босхом – маленький Иисус с игрушкой в руке, обратная сторона «Несения креста», созданного в 1490 году. На этой картине не видны ни Богородица, ни плотник Иосиф, ни волхвы, которые пришли преклониться. Тут нет также сумасшедших лиц грешников и как будто снята вся тяжесть напряженности этих образов. Есть только ребенок с игрушкой в руке – изображение, которое благодаря драматургии цветов Босха не описывается ни бесконечной профанной любовью к жизни, ни играми ангелов. Это странное, трупного цвета изображение ребенка с таким же странным, отрешенным взглядом. Такова неожиданная метаморфоза поля напряжения у Босха, метаморфоза, из ткани которой не то чтобы не изгоняется успех, его там просто не существует. Это тот самый ребенок, которого излечивают в юности в картине Дюрера «Христос среди врачей» или у которого на старости лет из мозга извлекают цветок в «Извлечение камня безумия» Босха8. Это джокер, играющий даже в стихии игры и ставящий вверх ногами весь порядок, который выстраивается людскими усилиями в поле напряжения сакрального и профанного.
Перевод с грузинского Дмитрия Гамкрелидзе
Публикуется на www.intelros.ru по согласованию с автором
Автор: Пиралишвили Заза Отарович
Доктор философских наук, профессор
Тбилисского государственного университета
2 Вспомним 31-й сонет Микеланджело:
Одною смертью нам дано спасаться
От острых стрел и беспощадных рук,
Что расточают столько мук,
Не взвесивши, в возмездиях за вины,
Ни времени, ни места, ни причины.
Уже душа моя шлет к Смерти слово
И о себе с собою говорит,
И что ни час, томится новой думой,
И что ни день, покинуть плоть готова,
И наперед в посмертный путь спешит,
Страшась и веря, светлой и угрюмой.
(Перевод А.М. Эфроса)
3 Куда уходим мы? — Всегда домой. — говорит Новалис.
4 Интересно и на этом примере хорошо видно, как взаимосвязаны сакральная и профанная полярности. Видно и то, насколько немыслимо достижение в чистом виде профанного, которое является осью многочисленных идеологий о земном рае, и что эта идея реально может дать лишь мир изображенных в «Несении креста» уродливых масок.
5 Я наткнулся на него несколько лет тому назад, К сожалению, тогда я не записал ни названия книги, ни автора.
6 Более правильным будет сказать, что смерть Бога в пространстве власти постулирована с самого же начала и сама идея Всевышнего здесь носит преимущественно ритуально-декоративное значение. Лучшим примером этого является попытка политического истеблишмента держаться поближе к религиозным институтам. Конечно, мы имеем дело не с религиозностью, а с соблюдением подтверждающих маску церемониальных норм, что является одной из конфигураций той же маски.
7 Нам нужна мгновенная память, быстрое ветвление, нечто вроде рекламной тождественности, которая может подтвердиться в любой момент, пишет Жан Бодрийар в “Прозрачности зла”. Человек не говорит себе: я существую, я здесь, но: я видим, я - изображение, смотрите же, смотрите! Это даже не самолюбование, это — поверхностная общительность, разновидность рекламного простодушия, где каждый становится импресарио своего собственного облика (с. 36-37).
8 В эпоху Босха считали, что причиной сумасшествия являлся драгоценный камень, появившийся в мозгу, и пытались извлечь его при помощи специальной операции. В этой картине (Извлечение камня) Босх с наивной непосредственностью примитивиста превращает камень в цветок.